Денис Захаров
Незавершенный портрет
Фрагмент книги «В стране льда и огня»
Фрагмент книги «В стране льда и огня»
Как с фокусного расстояния в два века рассказать о человеке, успевшем прожить всего двадцать три года? Воспоминаний о нем сохранилось не так уж много. Несколько близких друзей Филипа, которые могли бы поделиться историями, умерли в самом расцвете лет, а те, кто дожил до глубокой старости, обходились краткими свидетельствами из серии «достойный, энергичный, талантливый». К сожалению, хвалебные прилагательные не добавляют новых деталей к личности нашего героя.
Увы, но даже семейная переписка Хардвиков не изобилует подробностями о детстве и юности Филипа Йорка. Каким он был, что любил, как справлялся с трудностями? Основным источником сведений о нем остается краткий биографический очерк Генри Пеписа, епископа Вустерского, «жившего в тени семьи Хардвик»[1] и выступившего публикатором писем лорда Ройстона. По понятным причинам Пепис идеализирует Филипа и в чем‑то даже дорисовывает его образ.
Когда в 1838 году литературные произведения лорда Ройстона вышли в Лондоне, его сестра получила письмо от соученика Филипа, который, в частности, заметил: «Не могу не выразить своего удивления или, скорее, недоумения по поводу утверждения Пеписа на второй странице книги, где он говорит, что Ройстон „никогда не проявлял особой склонности к занятиям математикой“. Напиши так кто‑нибудь менее знакомый, чем прекрасно знавший его Пепис, я бы сказал, что этот человек совершенно не осведомлен о его склонностях» [2].
Пепис был на год старше Филипа, однако в аристократическую школу Харроу он был зачислен лишь спустя два года, после того как Ройстон поступил и учился там под кураторством доктора Друри — будущего наставника лорда Байрона. Примечательно, что другой свидетель, делясь воспоминаниями о гениальном поэте, не обошел стороной и Ройстона.
«Меня охватывает трепет, когда я считаю, сколько лет прошло с тех пор, как меня, маленького сорванца, отправили в школу Харроу, чтобы добиться успехов в образовании и улучшить свою нравственность. В то время в нашем литературном содружестве насчитывалось около трехсот крепких ребят, которые прошли через все школьные тяготы, усердно занимаясь по большей части крикетом и футболом, дабы отвлечься от второстепенных занятий классическими дисциплинами. По прошествии лет некоторые из этих мальчиков обрели репутацию людей выдающихся.
Первым назову сына лорда Хардвика, лорда Ройстона, который, к всеобщему огорчению, погиб, но друзья характеризуют его только с самой лучшей стороны. Помню, как своим чтением знаменитой речи Антония лорд Ройстон сорвал в школе овации. <…> Я вспоминаю еще одного знаменитого мальчика, лорда Байрона, который, несмотря на свою хромоту, был большим любителем спорта. Вергилию — лучшему поэту, когда‑либо писавшему на трудной латыни, он предпочитал игру в крикет» [3].
Справедливости ради стоит отметить, что в год поступления Байрона в Харроу, Филип Йорк уже заканчивал обучение, но наверняка оба мальчика пересекались в школьных коридорах или в классах. Судьба совершит еще один кульбит, когда позднее лорд Байрон станет завсегдатаем салона матери Ройстона.
Увы, но даже семейная переписка Хардвиков не изобилует подробностями о детстве и юности Филипа Йорка. Каким он был, что любил, как справлялся с трудностями? Основным источником сведений о нем остается краткий биографический очерк Генри Пеписа, епископа Вустерского, «жившего в тени семьи Хардвик»[1] и выступившего публикатором писем лорда Ройстона. По понятным причинам Пепис идеализирует Филипа и в чем‑то даже дорисовывает его образ.
Когда в 1838 году литературные произведения лорда Ройстона вышли в Лондоне, его сестра получила письмо от соученика Филипа, который, в частности, заметил: «Не могу не выразить своего удивления или, скорее, недоумения по поводу утверждения Пеписа на второй странице книги, где он говорит, что Ройстон „никогда не проявлял особой склонности к занятиям математикой“. Напиши так кто‑нибудь менее знакомый, чем прекрасно знавший его Пепис, я бы сказал, что этот человек совершенно не осведомлен о его склонностях» [2].
Пепис был на год старше Филипа, однако в аристократическую школу Харроу он был зачислен лишь спустя два года, после того как Ройстон поступил и учился там под кураторством доктора Друри — будущего наставника лорда Байрона. Примечательно, что другой свидетель, делясь воспоминаниями о гениальном поэте, не обошел стороной и Ройстона.
«Меня охватывает трепет, когда я считаю, сколько лет прошло с тех пор, как меня, маленького сорванца, отправили в школу Харроу, чтобы добиться успехов в образовании и улучшить свою нравственность. В то время в нашем литературном содружестве насчитывалось около трехсот крепких ребят, которые прошли через все школьные тяготы, усердно занимаясь по большей части крикетом и футболом, дабы отвлечься от второстепенных занятий классическими дисциплинами. По прошествии лет некоторые из этих мальчиков обрели репутацию людей выдающихся.
Первым назову сына лорда Хардвика, лорда Ройстона, который, к всеобщему огорчению, погиб, но друзья характеризуют его только с самой лучшей стороны. Помню, как своим чтением знаменитой речи Антония лорд Ройстон сорвал в школе овации. <…> Я вспоминаю еще одного знаменитого мальчика, лорда Байрона, который, несмотря на свою хромоту, был большим любителем спорта. Вергилию — лучшему поэту, когда‑либо писавшему на трудной латыни, он предпочитал игру в крикет» [3].
Справедливости ради стоит отметить, что в год поступления Байрона в Харроу, Филип Йорк уже заканчивал обучение, но наверняка оба мальчика пересекались в школьных коридорах или в классах. Судьба совершит еще один кульбит, когда позднее лорд Байрон станет завсегдатаем салона матери Ройстона.
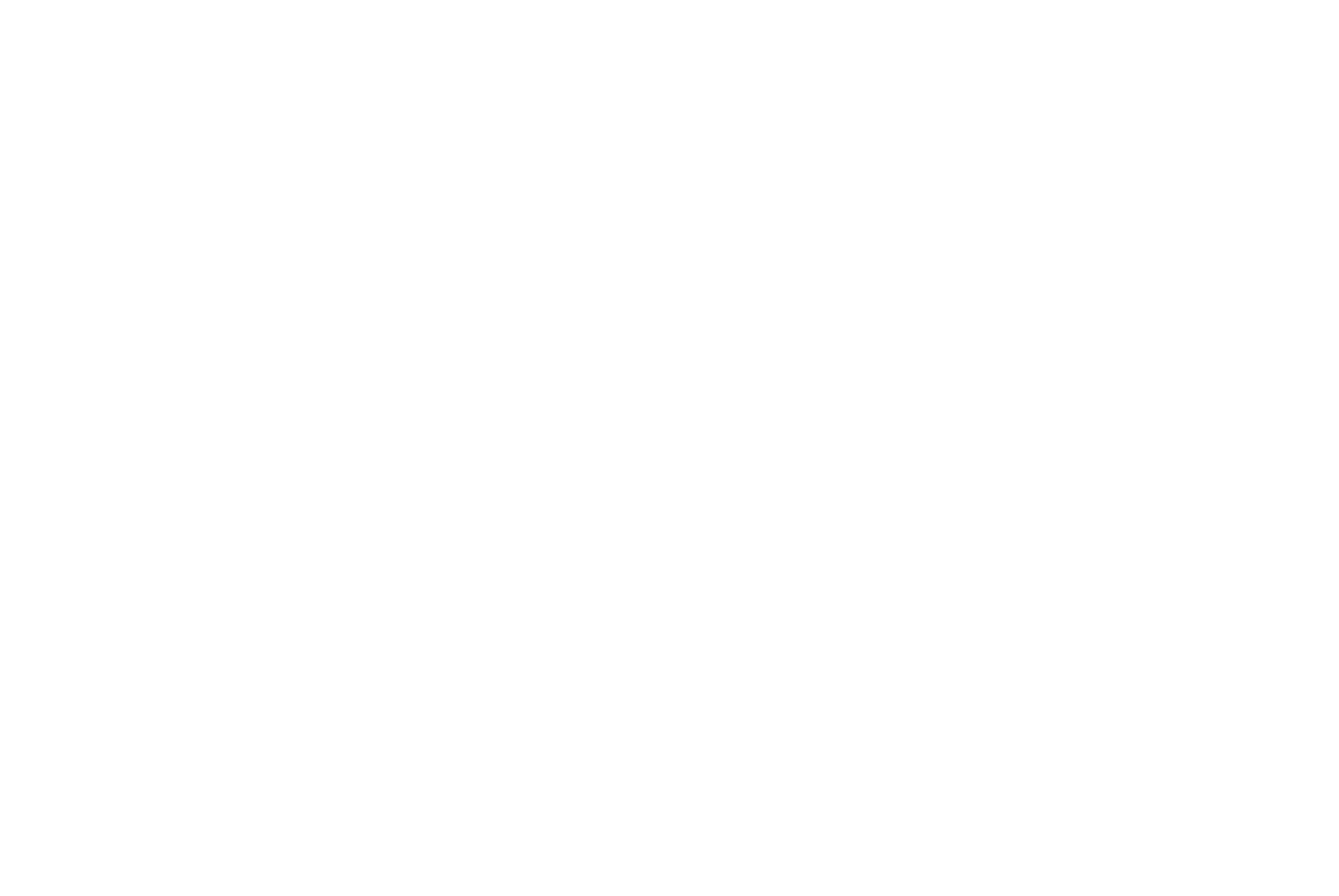
Школа Харроу. Ученики играют в крикет.
Гравюра Сэмюэля Роула, 1802
Гравюра Сэмюэля Роула, 1802
Те три года в Харроу, что Генри Пепис мог наблюдать за Ройстоном, позволили ему затем написать в очерке, что Филипа «редко можно было увидеть на крикетном или футбольном поле, и он обычно не участвовал ни в общих собраниях, ни в развлечениях своих школьных товарищей. Возможно, именно из‑за этих уединенных привычек его выдающиеся таланты и достижения не были в полной мере оценены» [4].
Пепис умалчивает о причинах замкнутости Филипа в Харроу, но другой очевидец, Денис ле Мэрчент, оставил пиетет в стороне. В своих мемуарах британский адвокат и писатель характеризует способности Филипа как более чем заурядные. Он вспоминает, что тот обычно вел малоподвижный образ жизни, и поясняет: «Лорд Ройстон мало общался со своими школьными товарищами и не разделял их забав, чему в действительности не способствовало слабое здоровье, поскольку он был хрупкого телосложения, страдал чахоткой и потому был совершенно неспособен к большим физическим нагрузкам. Его крайняя застенчивость помешала ему успешно сдать государственные экзамены, и он был признан скорее прилежным, чем умным» [5].
Примечательно, что младший брат лорда Ройстона Чарльз Джеймс Йорк скончался от чахотки в возрасте тринадцати лет. Пепис называет болезнь скарлатиной, но лондонская The Morning Herald указывает «туберкулез» как причину смерти подростка [6]. В начале XIX века общим названием «чахотка» определяли довольно широкий спектр болезней: бронхит, астму, грипп, ангину, воспаление легких, малокровие. «Домашний лечебник» Конрада Килиана определял чахотку как «изнурение, сопровождаемое ежедневною огневицею, кашлем и выхаркиванием гнойных или, по крайней мере, гноеобразных мокрот» [7]. Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки, которая давала о себе знать припадками — резкой переменой температуры тела, учащением пульса, приливами и потливостью. Неслучайно в письмах и дневниках больных виден страх, что простуда или пневмония перейдут в чахотку. Подобно лихорадке, диагноз «чахотка» подразумевал большой и разнообразный букет симптомов, который с трудом поддавался однозначной интерпретации. Кроме того, определение также использовали как эвфемизм для слишком чувствительных натур, склонных к меланхолии.
В те времена здоровое мужское тело являлось фундаментальным атрибутом конвенциональной мужественности. Лорд Ройстон всегда оставался человеком субтильным, безбородым и бледнокожим. Он не обладал ярко выраженной маскулинностью, хотя из отчетов о приключениях в России можно сделать вывод, что с возрастом силы и мужества в нем явно прибавилось.
С самого детства Филип рос нежным, сентиментальным мальчиком, любящим птиц и животных. В Харроу он больше времени проводил за книгами и учебниками, чем за игрой в футбол на школьной лужайке. И этим он отличался от остальных. Аристократическое происхождение его одноклассников не отменяло свойства человеческой натуры отвергать и преследовать непохожих на большинство. Поэтому нельзя исключать и травлю «чахоточного» Филипа со стороны крепких ребят, для которых преследование слабого — простой путь к самоутверждению.
Многое указывает на то, что шесть лет, проведенных Филипом в Харроу (где когда‑то учился и его отец), стали для подростка испытанием. Преодолеть отчужденность ему так и не удалось, а статус сына лорда-лейтенанта не сочетался со стремлением к одиночеству.
В августе 1801 года застенчивому виконту пришлось участвовать в торжественном приеме, устроенном его отцом в Дублине для местных армейских офицеров. (С 27 апреля граф Хардвик исполнял обязанности лорда-лейтенанта Ирландии.) В газетных отчетах писали: «Его превосходительство в сопровождении кавалерийского эскадрона и в компании своего старшего сына лорда Ройстона, <…> а также другой свиты прибыли в четверть шестого к Ротонде, у дверей которой их встретили представители комитета по проведению мероприятия» [8]. В семь начался торжественный ужин, к столу «подавали мясо черепахи и оленину, а также множество превосходных вин: бургундских и шампанских». Отдельный тост (восьмой по счету) подняли за Ройстона и его будущие успехи, которых ожидала семья в связи с поступлением сына в университет.
В начале октября 1801 года Филип стал студентом Колледжа св. Иоанна в Кембридже. Академическая обстановка способствовала развитию природных способностей юноши к изучению языков. Стоит оговориться, что в те времена изучать другие языки могли только состоятельные аристократы. В школе Ройстон выучил греческий, латынь, и французский. Университет помог освоить испанский и немецкий языки.
Пепис свидетельствует: «Те немногие избранные друзья, с которыми он общался, имели основания поражаться запасам знаний, накопленным им за те годы, что обычно посвящались развлечениям или, в лучшем случае, легким занятиям, а также приятному и глубокому общению, преобладающему в университете среди молодых людей со схожими привычками. Иногда их восхищала искрометность его юмора, а иногда удивляла точность и цепкость его памяти. Однако здесь, как и в Харроу, та же самая замкнутость мешала его талантам и достижениям стать общеизвестными, а небольшие способности, которые он когда‑либо проявлял к математическим занятиям, исключали возможность того, что он отличится своими успехами в специфических исследованиях этого университета» [9].
Витиеватыми формулировками Генри Пепис рисует образ интроверта и меланхолика, больше склонного к гуманитарным, нежели к точным наукам. В качестве доказательства он приводит создание Ройстоном перевода «Кассандры» (или, правильней, «Александры») — поэмы эллинистического автора Ликофрона, прозванной «темной» из‑за мрачности и сложности смысла.
Произведение стало своего рода образцом академической поэзии — парадоксальной, вычурной, загадочной и, похоже, соответствующей душевному настрою Ройстона. Как обоснованно заметил журналист середины XIX века Джон Николос, «переводчик досконально понимал своего мрачного и загадочного автора» [10].
1474 строчки стихов «Александры» являются пророчеством Кассандры о гибели Трои и о тех мучениях, на которые будут обречены греческие герои. Своим откровением предсказательница делится в присутствии единственного свидетеля — сторожа, охраняющего ее в заточении.
«Язык поэмы насыщен сложными аллюзиями и ассоциациями, которые должны были быть известными лишь достаточно узкому кругу образованных людей, — пишет отечественный исследователь античной культуры Алексей Мосолкин. — Непрекращающаяся вереница замысловатых слов и загадок до крайней степени отягчает всякого читателя, который взялся бы все‑таки за чтение подобного опуса» [11].
Что и говорить, в России перевод Ликофрона появился только в XXI в. (авторства Игоря Сурикова), а лорд Ройстон уже в начале XIX в. представил свое переложение «Александры», за что получил высокую оценку современников, включая похвалу ведущего английского антиковеда Ричарда Порсона. И это не рядовые слова благодарности, а признание существенного вклада в науку.
Алексей Мосолкин так объясняет научный вклад Ройстона: «Удивительно, но уже в то время юный парень ставит вопросы, которые не решены до сих пор. Речь идет о датировке жизни Ликофрона. Главная проблема — строки 1226 ff, которые своим смыслом выбиваются из всего исторического контекста — времени, когда жил Ликофрон. Ройстон полагает, что „римский фрагмент“ это не вставка, и, следовательно, вся поэма была написана позднее, когда ее текст мог сходиться с политическими реалиями. Со слов британской исследовательницы Стефани Вест я знал, что самое раннее сомнение — обоснованное — в науке было высказано в письме Фокса к Вэйкфилду. Но письма были опубликованы только в 1813 году, когда книга Ройстона уже вышла!» [12]
Что касается современной оценки перевода «Кассандры» лорда Ройстона, то А. В. Мосолкин считает его не совсем точным. «В оригинале 1474 строки, у Ройстона — 1712. Разница существенна. Вообще, я не представляю, какова была британская школа перевода к началу XIX века. Вероятно, точность была еще не в чести. Главным было поймать общий настрой оригинала. И Ройстон его поймал. Перевод выполнен пятистопным ямбом, что, насколько я понимаю, было обыкновенным явлением. Отсюда возникает ощущение, что читаешь Шекспира, а не автора III века до н.э. Кстати, какие‑то шекспировские аллюзии в тексте перевода тоже просматриваются. Ройстону было, наверное, около 20 лет, когда он работал над переводом. Возраст читать Гамлета» [13].
Пепис умалчивает о причинах замкнутости Филипа в Харроу, но другой очевидец, Денис ле Мэрчент, оставил пиетет в стороне. В своих мемуарах британский адвокат и писатель характеризует способности Филипа как более чем заурядные. Он вспоминает, что тот обычно вел малоподвижный образ жизни, и поясняет: «Лорд Ройстон мало общался со своими школьными товарищами и не разделял их забав, чему в действительности не способствовало слабое здоровье, поскольку он был хрупкого телосложения, страдал чахоткой и потому был совершенно неспособен к большим физическим нагрузкам. Его крайняя застенчивость помешала ему успешно сдать государственные экзамены, и он был признан скорее прилежным, чем умным» [5].
Примечательно, что младший брат лорда Ройстона Чарльз Джеймс Йорк скончался от чахотки в возрасте тринадцати лет. Пепис называет болезнь скарлатиной, но лондонская The Morning Herald указывает «туберкулез» как причину смерти подростка [6]. В начале XIX века общим названием «чахотка» определяли довольно широкий спектр болезней: бронхит, астму, грипп, ангину, воспаление легких, малокровие. «Домашний лечебник» Конрада Килиана определял чахотку как «изнурение, сопровождаемое ежедневною огневицею, кашлем и выхаркиванием гнойных или, по крайней мере, гноеобразных мокрот» [7]. Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки, которая давала о себе знать припадками — резкой переменой температуры тела, учащением пульса, приливами и потливостью. Неслучайно в письмах и дневниках больных виден страх, что простуда или пневмония перейдут в чахотку. Подобно лихорадке, диагноз «чахотка» подразумевал большой и разнообразный букет симптомов, который с трудом поддавался однозначной интерпретации. Кроме того, определение также использовали как эвфемизм для слишком чувствительных натур, склонных к меланхолии.
В те времена здоровое мужское тело являлось фундаментальным атрибутом конвенциональной мужественности. Лорд Ройстон всегда оставался человеком субтильным, безбородым и бледнокожим. Он не обладал ярко выраженной маскулинностью, хотя из отчетов о приключениях в России можно сделать вывод, что с возрастом силы и мужества в нем явно прибавилось.
С самого детства Филип рос нежным, сентиментальным мальчиком, любящим птиц и животных. В Харроу он больше времени проводил за книгами и учебниками, чем за игрой в футбол на школьной лужайке. И этим он отличался от остальных. Аристократическое происхождение его одноклассников не отменяло свойства человеческой натуры отвергать и преследовать непохожих на большинство. Поэтому нельзя исключать и травлю «чахоточного» Филипа со стороны крепких ребят, для которых преследование слабого — простой путь к самоутверждению.
Многое указывает на то, что шесть лет, проведенных Филипом в Харроу (где когда‑то учился и его отец), стали для подростка испытанием. Преодолеть отчужденность ему так и не удалось, а статус сына лорда-лейтенанта не сочетался со стремлением к одиночеству.
В августе 1801 года застенчивому виконту пришлось участвовать в торжественном приеме, устроенном его отцом в Дублине для местных армейских офицеров. (С 27 апреля граф Хардвик исполнял обязанности лорда-лейтенанта Ирландии.) В газетных отчетах писали: «Его превосходительство в сопровождении кавалерийского эскадрона и в компании своего старшего сына лорда Ройстона, <…> а также другой свиты прибыли в четверть шестого к Ротонде, у дверей которой их встретили представители комитета по проведению мероприятия» [8]. В семь начался торжественный ужин, к столу «подавали мясо черепахи и оленину, а также множество превосходных вин: бургундских и шампанских». Отдельный тост (восьмой по счету) подняли за Ройстона и его будущие успехи, которых ожидала семья в связи с поступлением сына в университет.
В начале октября 1801 года Филип стал студентом Колледжа св. Иоанна в Кембридже. Академическая обстановка способствовала развитию природных способностей юноши к изучению языков. Стоит оговориться, что в те времена изучать другие языки могли только состоятельные аристократы. В школе Ройстон выучил греческий, латынь, и французский. Университет помог освоить испанский и немецкий языки.
Пепис свидетельствует: «Те немногие избранные друзья, с которыми он общался, имели основания поражаться запасам знаний, накопленным им за те годы, что обычно посвящались развлечениям или, в лучшем случае, легким занятиям, а также приятному и глубокому общению, преобладающему в университете среди молодых людей со схожими привычками. Иногда их восхищала искрометность его юмора, а иногда удивляла точность и цепкость его памяти. Однако здесь, как и в Харроу, та же самая замкнутость мешала его талантам и достижениям стать общеизвестными, а небольшие способности, которые он когда‑либо проявлял к математическим занятиям, исключали возможность того, что он отличится своими успехами в специфических исследованиях этого университета» [9].
Витиеватыми формулировками Генри Пепис рисует образ интроверта и меланхолика, больше склонного к гуманитарным, нежели к точным наукам. В качестве доказательства он приводит создание Ройстоном перевода «Кассандры» (или, правильней, «Александры») — поэмы эллинистического автора Ликофрона, прозванной «темной» из‑за мрачности и сложности смысла.
Произведение стало своего рода образцом академической поэзии — парадоксальной, вычурной, загадочной и, похоже, соответствующей душевному настрою Ройстона. Как обоснованно заметил журналист середины XIX века Джон Николос, «переводчик досконально понимал своего мрачного и загадочного автора» [10].
1474 строчки стихов «Александры» являются пророчеством Кассандры о гибели Трои и о тех мучениях, на которые будут обречены греческие герои. Своим откровением предсказательница делится в присутствии единственного свидетеля — сторожа, охраняющего ее в заточении.
«Язык поэмы насыщен сложными аллюзиями и ассоциациями, которые должны были быть известными лишь достаточно узкому кругу образованных людей, — пишет отечественный исследователь античной культуры Алексей Мосолкин. — Непрекращающаяся вереница замысловатых слов и загадок до крайней степени отягчает всякого читателя, который взялся бы все‑таки за чтение подобного опуса» [11].
Что и говорить, в России перевод Ликофрона появился только в XXI в. (авторства Игоря Сурикова), а лорд Ройстон уже в начале XIX в. представил свое переложение «Александры», за что получил высокую оценку современников, включая похвалу ведущего английского антиковеда Ричарда Порсона. И это не рядовые слова благодарности, а признание существенного вклада в науку.
Алексей Мосолкин так объясняет научный вклад Ройстона: «Удивительно, но уже в то время юный парень ставит вопросы, которые не решены до сих пор. Речь идет о датировке жизни Ликофрона. Главная проблема — строки 1226 ff, которые своим смыслом выбиваются из всего исторического контекста — времени, когда жил Ликофрон. Ройстон полагает, что „римский фрагмент“ это не вставка, и, следовательно, вся поэма была написана позднее, когда ее текст мог сходиться с политическими реалиями. Со слов британской исследовательницы Стефани Вест я знал, что самое раннее сомнение — обоснованное — в науке было высказано в письме Фокса к Вэйкфилду. Но письма были опубликованы только в 1813 году, когда книга Ройстона уже вышла!» [12]
Что касается современной оценки перевода «Кассандры» лорда Ройстона, то А. В. Мосолкин считает его не совсем точным. «В оригинале 1474 строки, у Ройстона — 1712. Разница существенна. Вообще, я не представляю, какова была британская школа перевода к началу XIX века. Вероятно, точность была еще не в чести. Главным было поймать общий настрой оригинала. И Ройстон его поймал. Перевод выполнен пятистопным ямбом, что, насколько я понимаю, было обыкновенным явлением. Отсюда возникает ощущение, что читаешь Шекспира, а не автора III века до н.э. Кстати, какие‑то шекспировские аллюзии в тексте перевода тоже просматриваются. Ройстону было, наверное, около 20 лет, когда он работал над переводом. Возраст читать Гамлета» [13].
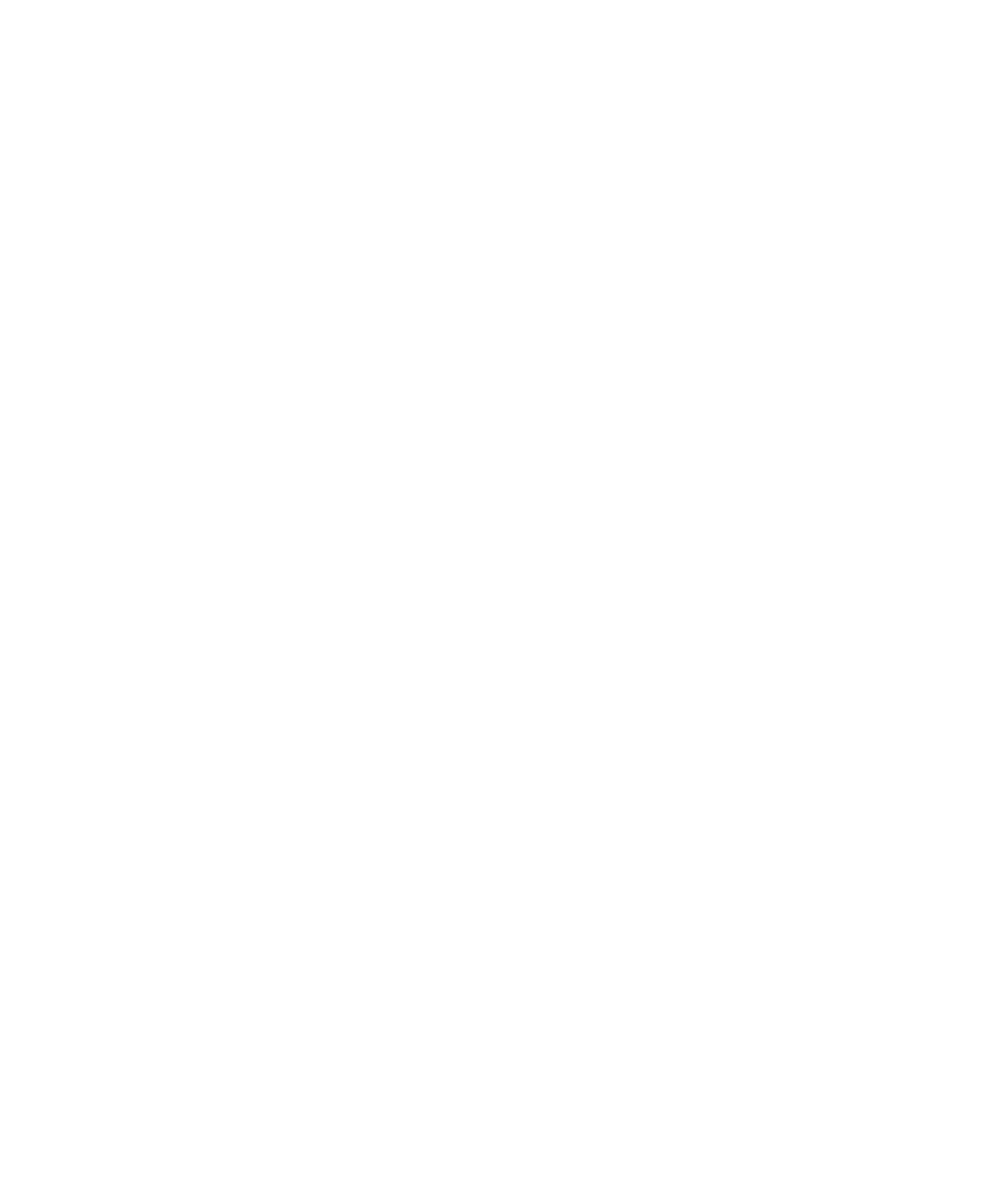
Генри Пепис (1783–1860), епископ Вустерский.
Неизвестный художник. National Galleries of Scotland
Неизвестный художник. National Galleries of Scotland
Когда и где Филип Йорк создавал перевод, достоверно неизвестно. Пепис предполагает, что основная часть работы заняла два года, во время которых Ройстон учился в Кембридже. «В университете ему не удалось привлечь к себе внимание, получая академические отличия. Но время, проведенное в колледже Святого Иоанна, ни в коем случае не было потрачено впустую. Он с большим усердием посвятил себя изучению классических писателей и, вероятно, именно там приступил к переводу „Кассандры“ Ликофрона» [14].
4 июля 1803 года лорд Ройстон наконец получил степень бакалавра [15]. После этого он некоторое время провел в Ирландии, где его отец, граф Хардвик, продолжал наслаждаться своей синекурой. В публикациях газет той поры можно встретить краткие упоминания о членах семьи лорда-лейтенанта, совершающих экскурсионные поездки по Ирландии, а также сообщения об их светской жизни. Так, 6 сентября 1804 года «их превосходительство лорд-лейтенант, графиня Хардвик, лорд Ройстон прибыли в особняк достопочтенного Джона Фостера, канцлера казначейства Его Величества, в резиденции в Коллоне, где для их приема было приготовлено самое роскошное действо» [16].
Чем еще занимался Филип в это время, Пепис не уточняет, но некоторые факты приводят историки английского парламентаризма. В частности, они пишут, что лорд Хардвик «с нетерпением ждал, когда его сын попадет в парламент» [17]. В 1802 году, еще будучи студентом, Ройстон участвовал в агитационной программе своего дяди Чарльза Филипа Йорка. Для молодого человека, чья политическая карьера была предрешена его знатными предками, опыт избирательной кампании был крайне полезен. Вскоре ему предстояло выдвинуть собственную кандидатуру на выборах в палату представителей от Кембриджа.
Занимая высокий пост, Филип Йорк-старший продолжал энергичные поиски «теплого местечка» для собственного сына. В апреле 1805 года журналистам стали известны подробности интриги, в которой были замешаны Хардвики.
«Ходят упорные слухи, что мистер Уильям Питт-мл. собирается уйти [с поста премьер-министра]. <…> Мистер Чарльз Йорк будет назначен преемником [Генри Дандаса] лорда Мелвилла в Адмиралтействе. Йорк лишь ждет совершеннолетия своего племянника лорда Ройстона (оно наступит 7 числа следующего месяца), чтобы он мог сменить его в палате представителей от Кембриджа» [18].
Люди, знавшие светскую подоплеку ситуации, быстро смекнули смысл происходящего: семья Хардвик разыгрывала шахматную комбинацию. Дело в том, что Генри Дандас был любовником Энн Бернард (тетки Ройстона). Сводный брат графа Хардвика должен был перейти в Адмиралтейство по протекции Энн. (Однажды ей удалось выторговать у Дандаса должность для мужа в Южной Африке, так почему не попросить за деверя?) А лорд Ройстон получает депутатский мандат без всяких выборов по праву «замещения должности» ушедшего на повышение дяди.
Однако планы не осуществились. Питт оставил должность только в январе 1806 года, и то по причине смерти от истощения на нервной работе. Филип в ответственный момент гостил у отца в Дублине вместо пребывания в гуще политических событий Лондона. Время для закулисных переговоров было упущено. Несмотря на то что к началу февраля имя лорда Ройстона, как представителя кембриджского университетского избирательного округа, все‑таки появилось в списке трех претендентов [19] на место в новом правительстве Уильяма Гренвилла, пост канцлера казначейства (министра финансов) достался лорду Генри Петти-Фицморису.
Ждать нового окна возможностей лорду Ройстону не очень хотелось. Куда больше его вдохновляли лавры литератора. Вскоре Филип, который, по замечанию Пеписа, «побаивался отважиться на публикацию», все же решился напечатать сто экземпляров своего перевода «Кассандры» в университетском издательстве исключительно для частного распространения среди друзей и ученых. Осуществить свой проект Филип поручил все тому же Пепису, поскольку лорд Ройстон уже придумал себе новое занятие. Не обошлось без подсказки отца. Лорд Хардвик «хотел, чтобы он отправился в амбициозное турне по не занятой Наполеоном Европе» — упоминают историки парламентаризма. Возможно, это означает, что Филип Йорк-старший прорабатывал вариант развития дипломатической карьеры своего сына. История знала прецеденты, когда путешественники настолько хорошо внедрялись в аристократические дворы Европы, что невольно становились неофициальными посланниками своего государства, исполняя чрезвычайно деликатные поручения. Быть может, именно такие амбиции хотел зародить в сыне его отец.
В этом смысле Российская империя являлась подходящим местом для подобной миссии.
4 июня 1806 года лорд Ройстон в последний раз появился при дворе, облаченный в парадную форму кембриджской милиции. Повод был более чем знаменательный — в Лондоне отмечали 68‑летие Георга III, и, согласно протоколу, светские хроникеры публиковали в газетах точное описание нарядов присутствующей на торжестве аристократии.
О подлинных причинах, побудивших Филипа покинуть родину, Пепис пишет витиевато. «Он прокладывал свой путь в Российскую империю через Данию и Швецию. Политическое состояние Европы в то время не позволяло англичанам посещать ее самые интересные уголки, и, возможно, лорд Ройстон отнюдь не жалел о необходимости свернуть с проторенной дороги и исследовать страны, которые, хотя и содержали меньше интересных объектов, чем Франция или Италия, были менее известны широкой публике».
Можно выдвинуть гипотезу, что истинной причиной «бегства из Англии» было желание Филипа избежать той политической карьеры, которую определяло его происхождение. Ройстон тяготел к занятиям творчеством, нежели к высокопарно скучным парламентским дебатам. Длительное путешествие исключало его из активной деятельности депутата. К моменту возвращения домой спустя два года многое могло поменяться в политическом ландшафте. Возможно, на это и рассчитывал молодой литератор.
4 июля 1803 года лорд Ройстон наконец получил степень бакалавра [15]. После этого он некоторое время провел в Ирландии, где его отец, граф Хардвик, продолжал наслаждаться своей синекурой. В публикациях газет той поры можно встретить краткие упоминания о членах семьи лорда-лейтенанта, совершающих экскурсионные поездки по Ирландии, а также сообщения об их светской жизни. Так, 6 сентября 1804 года «их превосходительство лорд-лейтенант, графиня Хардвик, лорд Ройстон прибыли в особняк достопочтенного Джона Фостера, канцлера казначейства Его Величества, в резиденции в Коллоне, где для их приема было приготовлено самое роскошное действо» [16].
Чем еще занимался Филип в это время, Пепис не уточняет, но некоторые факты приводят историки английского парламентаризма. В частности, они пишут, что лорд Хардвик «с нетерпением ждал, когда его сын попадет в парламент» [17]. В 1802 году, еще будучи студентом, Ройстон участвовал в агитационной программе своего дяди Чарльза Филипа Йорка. Для молодого человека, чья политическая карьера была предрешена его знатными предками, опыт избирательной кампании был крайне полезен. Вскоре ему предстояло выдвинуть собственную кандидатуру на выборах в палату представителей от Кембриджа.
Занимая высокий пост, Филип Йорк-старший продолжал энергичные поиски «теплого местечка» для собственного сына. В апреле 1805 года журналистам стали известны подробности интриги, в которой были замешаны Хардвики.
«Ходят упорные слухи, что мистер Уильям Питт-мл. собирается уйти [с поста премьер-министра]. <…> Мистер Чарльз Йорк будет назначен преемником [Генри Дандаса] лорда Мелвилла в Адмиралтействе. Йорк лишь ждет совершеннолетия своего племянника лорда Ройстона (оно наступит 7 числа следующего месяца), чтобы он мог сменить его в палате представителей от Кембриджа» [18].
Люди, знавшие светскую подоплеку ситуации, быстро смекнули смысл происходящего: семья Хардвик разыгрывала шахматную комбинацию. Дело в том, что Генри Дандас был любовником Энн Бернард (тетки Ройстона). Сводный брат графа Хардвика должен был перейти в Адмиралтейство по протекции Энн. (Однажды ей удалось выторговать у Дандаса должность для мужа в Южной Африке, так почему не попросить за деверя?) А лорд Ройстон получает депутатский мандат без всяких выборов по праву «замещения должности» ушедшего на повышение дяди.
Однако планы не осуществились. Питт оставил должность только в январе 1806 года, и то по причине смерти от истощения на нервной работе. Филип в ответственный момент гостил у отца в Дублине вместо пребывания в гуще политических событий Лондона. Время для закулисных переговоров было упущено. Несмотря на то что к началу февраля имя лорда Ройстона, как представителя кембриджского университетского избирательного округа, все‑таки появилось в списке трех претендентов [19] на место в новом правительстве Уильяма Гренвилла, пост канцлера казначейства (министра финансов) достался лорду Генри Петти-Фицморису.
Ждать нового окна возможностей лорду Ройстону не очень хотелось. Куда больше его вдохновляли лавры литератора. Вскоре Филип, который, по замечанию Пеписа, «побаивался отважиться на публикацию», все же решился напечатать сто экземпляров своего перевода «Кассандры» в университетском издательстве исключительно для частного распространения среди друзей и ученых. Осуществить свой проект Филип поручил все тому же Пепису, поскольку лорд Ройстон уже придумал себе новое занятие. Не обошлось без подсказки отца. Лорд Хардвик «хотел, чтобы он отправился в амбициозное турне по не занятой Наполеоном Европе» — упоминают историки парламентаризма. Возможно, это означает, что Филип Йорк-старший прорабатывал вариант развития дипломатической карьеры своего сына. История знала прецеденты, когда путешественники настолько хорошо внедрялись в аристократические дворы Европы, что невольно становились неофициальными посланниками своего государства, исполняя чрезвычайно деликатные поручения. Быть может, именно такие амбиции хотел зародить в сыне его отец.
В этом смысле Российская империя являлась подходящим местом для подобной миссии.
4 июня 1806 года лорд Ройстон в последний раз появился при дворе, облаченный в парадную форму кембриджской милиции. Повод был более чем знаменательный — в Лондоне отмечали 68‑летие Георга III, и, согласно протоколу, светские хроникеры публиковали в газетах точное описание нарядов присутствующей на торжестве аристократии.
О подлинных причинах, побудивших Филипа покинуть родину, Пепис пишет витиевато. «Он прокладывал свой путь в Российскую империю через Данию и Швецию. Политическое состояние Европы в то время не позволяло англичанам посещать ее самые интересные уголки, и, возможно, лорд Ройстон отнюдь не жалел о необходимости свернуть с проторенной дороги и исследовать страны, которые, хотя и содержали меньше интересных объектов, чем Франция или Италия, были менее известны широкой публике».
Можно выдвинуть гипотезу, что истинной причиной «бегства из Англии» было желание Филипа избежать той политической карьеры, которую определяло его происхождение. Ройстон тяготел к занятиям творчеством, нежели к высокопарно скучным парламентским дебатам. Длительное путешествие исключало его из активной деятельности депутата. К моменту возвращения домой спустя два года многое могло поменяться в политическом ландшафте. Возможно, на это и рассчитывал молодой литератор.
Генри Пепис (1783−1860) — английский священник, получивший образование в школе Харроу и Тринити-колледже в Кембридже. Служил приходским ректором, в 1840 году возведен в сан епископа. Придерживался либеральных взглядов. Был женат, имел четверых детей. Одна из его дочерей, Эмили, стала детской писательницей, а внук Артур Фоли Уиннингтон-Ингрэм с 1901 по 1939 гг. занимал пост епископа Лондона.
Le Marchant Denis, Sir. Memoir of John Charles, Viscount Althorp, third Earl Spencer. London: R. Bentley, 1876. P.59.
Письмо Ричарда Аллота из архива семьи Хардвик было опубликовано в качестве факсимильной копии для отдельного тиража указанной книги.
Монолог Марка Антония над телом Цезаря — один из лучших образцов ораторского искусства. Это выступление стоит в центре классической трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь».
Tributes to the Memory of Lord Byron. The following Extract from a Letter written by a School fellow of Lord Byron, contains some interesting recollections of his early life // The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction. Saturday, May 29, 1824. P.358. Свое имя мемуарист предпочел скрыть.
The Remains of the Late Lord Viscount Royston: With a Memoir of His Life by the Rev. Henry Pepys. London, 1838. P.1.
Le Marchant Denis. Memoir of John Charles… P.55.
The Earl of Hardwicke // The Morning Herald (London). Friday, May 4, 1810. P.4. В газетном сообщении был неверно указан возраст мальчика — 19 лет, хотя Чарльзу Джеймсу было всего 13.
К.‑Й. Килиан, П. Бутковский. Домашний лечебник. СПб., 1830.
Entertainment of the Lord Lieutenant by the Captains of Yeomanry, of the County and City of Dublin // Morning Post. Thursday, August 6, 1801. P.4.
The remains of the late Lord Viscount Royston… P.2.
John Bowyer Nichols. Illustrations of the Literary History of the 18th century. Vol. VII. London, 1848. P. 37.
Мосолкин А. В. Несколько слов к русскому переводу «Александры» Ликофрона. Вестник древней истории. 2011 г. № 1. С. 217.
Примечательно, что выпущенный (частным образом) в 1806 г. перевод Ройстона также являлся первым опубликованным переводом «Александры» на английском языке. Позже стало известно о существовании рукописи перевода, сделанного в 1800 году студентом Оксфорда Джоном Саймонсом (1781−1842) — сыном Чарльза Саймонса, биографа Джона Мильтона. Об этом см.: R. I. Lycophron // Notes and Queries. Vol. IV. London, March 21, 1863. P.230.
Ричард Порсон (1759−1808) — английский антиковед, профессор греческого языка, сформулировавший правило строения ямбического триметра классической греческой трагедии, так называемый закон Порсона. Издавал в Англии произведения Эсхила и Еврипида, составлял комментарии к греческим авторам.
Чарльз Джеймс Фокс (1749−1806) — британский политический деятель; Гилберт Вэйкфилд (1756−1801) — британский филолог, переводчик древних классических авторов (Вергилия, Лукреция).
Из письма А. В. Мосолкина автору от 15 января 2025 года.
Там же.
The remains of the late Lord Viscount Royston… P.2−3.
Cambridge, 4 July // Bury and Norwich Post. Wednesday, July 6, 1803. P.2.
Dublin, September 6 // The Sun (London). Tuesday. September 11, 1804. P.3.
The History of Parliament: the House of Commons 1790−1820, ed. R. Thorne, 1986. Philip Yorke, lord Royston.
From another correspondent // Yok Herald. Saturday, April 27, 1805. P.2.
New Administration // Aberdeen Press and Journal. Wednesday, February 5, 1806. P.3.

