Андрей Гелианов
«Причалы или Машина тайн»
Акт II, глава 1 «Непокойное воскресенье»
Акт II, глава 1 «Непокойное воскресенье»
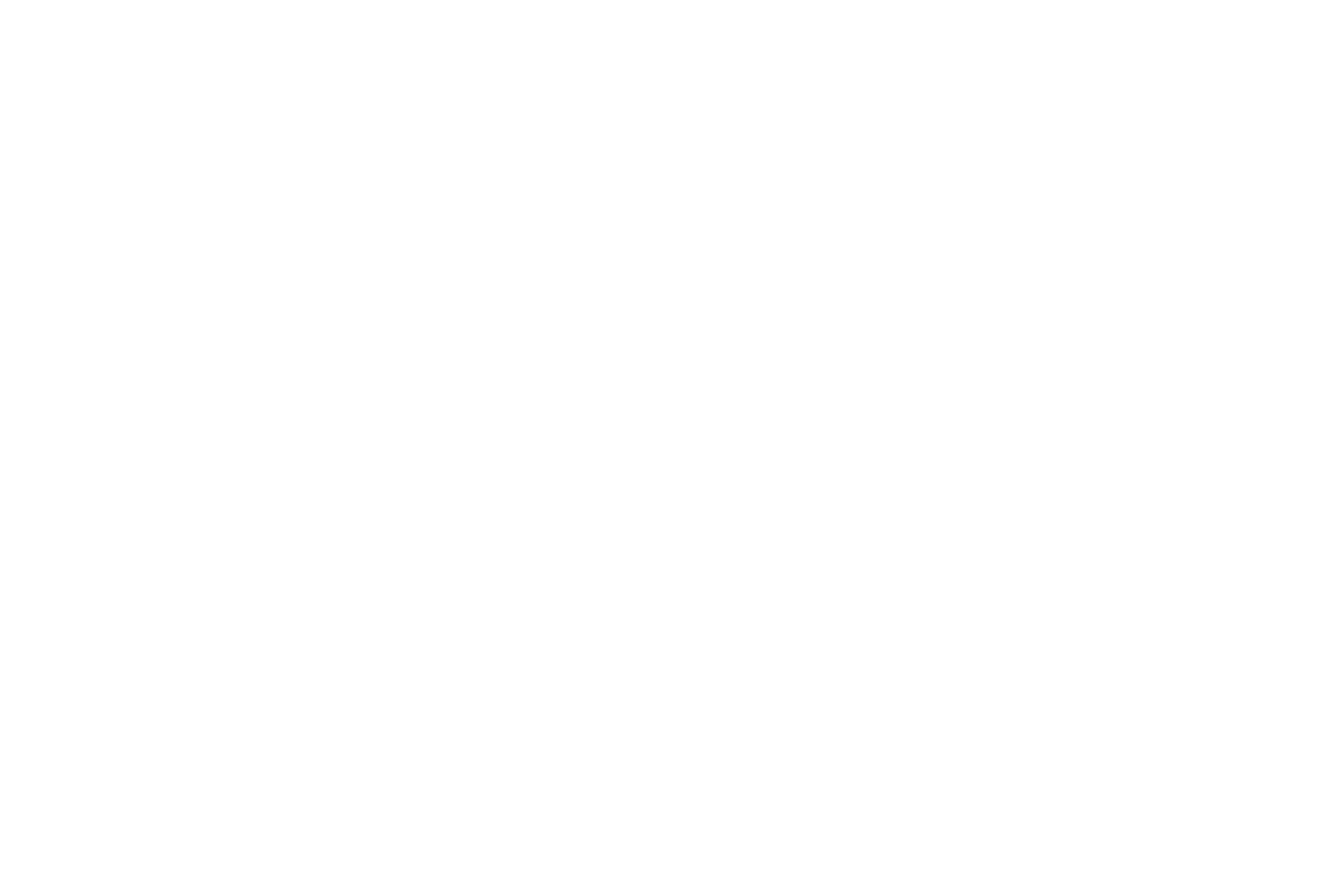
Edward Moran. Life Saving Patrol
Лиссабон, 1929
I AM HISTORY!
— так сказал бы колонизатор, владыка Нового Света, повелитель морей и книг.
Я говорю: я — история.
Я стою на углу одной из многих улиц Байши, чуть покачиваясь, как будто мою фигуру колышет незримый ветер. Мой взгляд устремлен на табачную лавку на той стороне дороги — в дверях ее, заложив большие пальцы за полы сюртука, стоит, щурясь, довольный хозяин, мальчишка-посыльный рядом глазеет на меня, едва не разинув рот.
Мой взгляд устремлен выше вывески табачной лавки и выше этой реальной улицы в нежной тревоге бегущего прочь воскресенья, тревоге такой обеззубленной и беспечной, что она как патока, искусно пропитывающая необязательность каждого жеста, посыла, каждой отмеренной тиком часов минуты.
Я — НИКТО.
Мой взгляд устремлен на каскадные гроздья миров, на многоглазье других реальностей, под видом решетки перистых облаков, распростершихся в высоте над табачной лавкой. Я знаю, что их никто не видит, кроме меня, эти вовсе не таящиеся колодцы, оконные рамы, проемы в миры, которые так не похожи на этот и так же не интересуются чем-то, кроме себя.
Я НИКЕМ НИКОГДА НЕ БУДУ.
Иногда во снах я вижу особым тактильно-дыхательным зрением — так, должно быть, видят опытные слепые — как души во тьме этого мира начинают давить на пленку, обтягивающую коридоры моих тихих дней, как они напирают, подобно массе тяжелых шаров, как невидящие глаза, выпученные извне, и они все стремятся прорваться ко мне, потому что я вижу их, и всякий раз тогда я просыпаюсь от звука рвущейся пленки и тяжело дышу, стараясь унять сердцебиение, а кончики пальцев рук так странно зудят, точно ими я сдерживал эту мощь, совсем не пугающую и, наоборот, притягательную в свете дня.
Мне кажется, чаще всего во снах мы ниже себя самих, мы отсутствуем, и в этом отсутствии нет того благородства, которое чувствуется в пустом троне, скорее это отсутствие до-создания, столь же скучное, каким скучным был этот мир до появления разума, способного мыслить и грезить.
И ЗАХОТЕТЬ СТАТЬ КЕМ-НИБУДЬ Я НЕ МОГУ.
Время остановилось. Я всегда теперь буду смотреть на табачную лавку через дорогу в Байше, ловить на полуподлете удивленно-тупой любопытствующий взгляд мальчишки, чувствовать летнюю лень хозяина и смотреть, покачиваясь, содрогаемый ветром пространств, ни для кого не присутствующих, как над крышами Лиссабона в облаках вращается калейдоскоп миров.
Может быть, это только игра облаков и уходящего света на утомленных рабочей неделей нервах? Нет, память моя, хотя и рассеяна, помнит свои частички, простирается далеко-далеко. Ведь я не всегда был Бернарду Соареш, сорокалетний помощник бухгалтера с улицы Золотильщиков, где я также живу.
Я был однажды (и буду всегда, ибо память живет не во времени) мальчиком, что бежал по широкой поляне — разросшемуся травой спортивному стадиону? — не отзываясь на окрик родителей за спиной, и глядел на вот такие же, как сейчас, облака, обращенные багровым колдовством в замки и лики чудищ, говорящие монументы, и — как и сейчас — на проемы пространств, за которыми жизнь шла другими путями, закрывшимися для взрослых умов.
НО МЕЧТЫ ВСЕГО МИРА ЗАКЛЮЧЕНЫ ВО МНЕ.
Мне не снится такое во снах, потому что я сторговал эту реальность за сны наяву. Во снах мне нечего делать, ведь я все успел, пока мое тело прилежно сверяло отметы для господина Вашкеша в конторе на улице Золотильщиков, том единственном образе человечества, с которым я соприкасаюсь каждый рабочий день.
Сегодня — мое непокойное воскресенье, день, когда нужно дать себе отдых. И что же мне снилось сегодня? Какой-то воздвигшийся у Лиссабона мост из бетона и страха, очень похожий на тот, что в Америке. Помню странные автомобили, таких у нас еще нет.
Доносятся звуки. Время все-таки движется, значит, моя греза об ожерелье миров для некоронованного сердца присутствия — скоро рассеется.
О если б закрытые двери могли только вообразить, сколькими путями можно слететь с петель! Что, если бы нашу планету освещало два солнца, а не одно? Иная базовая метафора для абстракций размером в жизнь. Что, если бы глаголы и существительные поменялись местами, и люди бы воспринимали мир так и не знали бы, что бывает иначе? Мы с другом бегом спустились к парку — бежание в направлении парка обрело форму меня и друга.
Что, если бы идея чистоты и на бытовом, и на символическом уровне не стала бы стержнем, вокруг которого выстраивается любой ритуал и поступок? Что, если бы мы все были бестелесными и бесприютными духами, жаждущими воплощения на короткий жизненный срок, и полная страданий жизнь во плоти была бы конечной целью наших религий?
Что, если бы жизнь и вправду была грамматически правильной, как предложения, которыми мы пытаемся ее описать? Что, если бы много личностей в одном уме были бы нормой, а люди, у которых есть только одно «Я», считались бы кем-то вроде бездомных, объектами жалости и презрения…
Но довольно. Хозяин табачной лавки мне улыбается и приветливо машет рукой.
***
Внутри душистого помещения табачной лавки легко и уютно, беспечно, как будто ты нож и идешь сквозь воск. Как обычно, хозяин хвалится новыми образцами, привезенными из далеких стран, из забытой Африки, из неизвестных Америк, и я, как обычно, киваю и приказываю завернуть тот же самый сорт табака, который беру всякий раз. Мы довольны друг другом. Общение по лекалам сшивает реальность крепче и дает хорошее настроение.
Я закуриваю прямо на улице и прислушиваюсь, куда ноги желают меня нести, пока голова наполняется приятной глупостью дыма. Где-то там, на не слишком далеких задворках телесных тканей начинает ассоциативно вращаться знакомый алчный цветок, пока крохотный водоворот, желающий алкоголя. Позже. Я хочу идти в непокой, раздерганность этого воскресенья до самых корней и лишь после припасть к источнику древнего отдохновения.
В желтом свете старогазетного дня я слоняюсь, скользя по улицам, по которым могу уверенно двигаться и без глаз, и без самого себя — как часто делаю в скучных снах. Мимо книжных витрин Английского магазина (Офелия! о нимфа), мимо памятника божественному Камоэнсу (вперяю вдаль отчаянное око), мимо рыночной площади, которую бы я написал в других красках, но я не живописец, да она и так хороша.
Чувствую, будто взгляд со стороны, приглядываюсь и вздрагиваю — там лепилась к балкончикам и помятым рамам непритязательная, приземленная, до ошеломления настоящая жизнь. Дома облепляет время, бесстыдное в своей скорости, и я прихожу к заключению, что вся жизнь — это такое вот воскресенье. Лень, попытка расслабиться, нетерпение, скорей-скорей, суетливый омут, случайная шутка — и вот в понедельник вдруг наступает смерть, а так ничего по сути и не случилось. А что с ними может случиться? А что — со мной?
Я оказываюсь на причале. Кажется, уже настала секунда, когда масса солнца его перевесила и теперь тянет вниз. Хорошо, мало есть более невпечатляющих и бессмысленных зрелищ, чем край мира в сверкании дня. Край мира, край старого света. Я пытался однажды, в особенно скучный конторский день написать оду именно об этом конкретном причале. Но он рассыпался и рассыпался на символы, отголоски, отображения, и мне в руки давалась лишь только идея Причала, Причала причалов, сияющая трепетавшая рыба платоновской истины, которую я с отвращением снова и снова забрасывал в море чернил, а она выплывала обратно.
Звуки громче и чаще смех, а цвета — понемногу тускнеют. Пора бы и мне в таверну.
Но куда же? К Абелю? В этот его чертог виноделия, горделивый, двумя исполинскими глазоокнами выглядывающий на дне души потребность в чарах лозы. А если из стерео сделать моно, сощуриться, оставив в поле зрения только один застекленный круг — то ты словно на пароходе, иллюминатор-гигант, или точно в соборе, где витражи лишены рисунков, но многое на них чертится самим охмеленным воображением.
Длинные стойки, точно длящиеся из самой зарницы истории, из пиршественного зала Тимея, за стойками — безукоризненно вежливые офицеры винных войск генерала Абеля де Перейры, улыбчивого магната в небольшом теле с круглой загадочной головой. Как много прекрасных часов, вечеров, прозрений было проведено и обретено у Абеля! Но вот незадача, там негде толком присесть. Политика заведения: ты должен уметь устоять на своих двоих — все же это не есть кабачок и никоим образом не воскресный трактир, это чертог, территория винноцветного моря вечерних будней для пары стаканов.
Сегодня же, в непокойное воскресенье, мне нужно другое место, мне нужен тот кабак на границе вечера, заведение у Раймундо, где помощник бухгалтера с улицы Золотильщиков сможет присесть и дать вольный отдых утомленному этим предписанным отдыхом телу.
***
Кабачок «У Раймундо» отнюдь не велик, разноцветием и разборчивостью обстановки и публики он похож на смелый сезонный салат. На границе вечера здесь установилась своя закрученная атмосфера, ее слагают тепло, удивление и экранированность от времени. Время наружное, ползущее спазматически к боязливым последним радостям отмеренного рабочему люду дня перерыва — это время плотно отбаррикадировано и хнычет снаружи, в такт зачинающемуся дождю.
Лиссабон так хорош, когда дождь размывает время, и стоящие над потоком темные влажные булыжники мостовых вдруг ведут за пределы систем.
(Бернарду войдет через четыре минуты)
Раймундо Рейш (дальний родственник Рикардо Рейша, поэта), чью личину теперь я принял, с улыбкой добродушной и гладковыбритой, как и лицо, разглядывает зал с редкими, удивительными образцами людской породы. Они не коротают время, но изживают его в диалоге, всегда обращенном к тому, что не может слышать и понимать — но зачем-то всегда отвечает.
Вот, допустим, поэт, воздыхающий, очень стереотипный от непокорных волос до вольной одежды и грустного взора. Третий номер журнала с его сонетами о поиске белого млека сердца в тенях лиссабонской ночи — так и не вышел. Типография занята — наверное, прокламациями о новом курсе на модернизацию, которой решил добиться свежеизбранный министр финансов Салазар, странный малый, профессор, но с кардинальским тоном.
Поэту грустно, он пытается быть поэтом, поэтически топит себя в вине, когда не выходит, и очень переживает, что люди — какие еще люди? — его не прочтут. Я слегка неодобрительно (пока он не видит) качаю головой, наливая ему новый стакан. Мне больше по душе творцы вроде господина Бернарду Соареша, которые трудятся в поте лица своего на улице Золотильщиков, оставляя письменные забавы на час досуга, и не помышляют о том, чтобы определять себя как «поэта». Всеглазый, прости!
(Бернарду войдет через три минуты)
Или вот, допустим, двое молодых людей сидят и играют в игру, завороженные и ей, и собой, и друг другом, и особым пространством, что возникает на срезе всех этих фактов. В игре используется доска и фигурки, и я каждый раз, когда подношу им выпить, силюсь разобрать, что же там происходит, но не могу. Вроде бы ничего азартного, я бы такое не потерпел в этих стенах, но и правил таких нигде не написано. Фигурки людей, яркие геометрические формы, литые и плетеные значки, означающие интегралы и уровни… все словно взято из разных наборов! А может, они придумывают игру на ходу? Заглядываю им в лица и силюсь прочесть ответ, но юноши невозмутимы.
Один — музыкант, и его гитара (или что это, теорба?) прислонилась к столику крепко, как пьяный, обнявший столб. Его собеседник — работает на Компанию, название которой избегает произносить всуе. Он убеждает музыканта оставить неопределенность и заработать денег. Тот резонно указывает, что денег всегда не хватает, а свобода у человека одна.
— Ты мог бы не пить, а откладывать на то, чтобы уехать из Лиссабона, верно? — говорит музыкант.
— Я пью, чтобы прийти в себя после работы, а ты-то зачем?
— Чтобы уйти от себя.
— Какая чудесная вещь алкоголь, служит всякой цели! — музыкант протягивает было руку к фиолетовому кубу на доске, на нем крохотная фигурка верблюда, потом отдергивает. — Нет, надо подумать.
— Думай, думай, — восклицает компанейский. — Скоро нам дадут новые пастбища. Модернизация! Рев прогресса.
— За ним не слышно музыки.
— Он и есть новая музыка. Кто вообще играет еще на теорбе?
— Робер де Визе. Он пришел ко мне в образе ангела, когда я лежал пьяный у площади, и сказал «сын мой, ну ты, однако, даешь».
— Так ты подумаешь? Новый набор открыт.
— Да, я подумаю.
Цилиндр, покрытый чем-то блестящим, движется под чутким пальцем того, из Компании, и пересекает всю доску наискось.
— Гм, — говорит опять музыкант. — Тут надо подумать.
— Да думай, думай. Раймундо! Можно еще?
— Конечно, — говорю я, видимый им как кабатчик Раймундо Рейш. Я повидал много — больше, чем есть галактик в видимом универсуме — перепутий, сомнений и точек, когда меняется траектория, и мне хочется сообщить музыканту, который, кажется, вот-вот проиграет, что ни одно виденное мной решение, ни хорошее, ни плохое, не принималось как итог глубоких раздумий, а раздумья ведут только лишь к упущению шанса. Я молчу и подливаю еще вина. У окомпаненного молодого человека замечаю впервые значок на лацкане — глаз в окружении трех схематических птиц.
Музыкант не отрывает взгляд от доски, сцепив руки под подбородком.
(Бернарду войдет через две минуты)
— Но вот чего я не могу взять в толк, — раздраженно продолжает вслух, кажется, сам с собою, печальный поэт. — Неужели нас правда так нужно сбивать в кучу по кровному признаку, как зверей, чтобы что-то реализовать? Неужели провал испанского нацпроекта дона Примо де Ривера ничему этого Салазара не научил? Какой еще португальский Национальный союз?
Он выдерживает паузу, точно слушая ответ невидимого собеседника, и кивает, а я прохожу мимо с подносом, дивясь, неужели пленитель слов наконец лишился остатков разума.
Поднос движется гладко через пространство кабачка, точно античная триера, почти не покачиваясь, проплывает мимо огромных осоловелых циклопов, приклеившихся к стульям-утесам. Одинокий коктейль в высоком стакане цвета задумавшегося океана предназначен для Нины, постоянной обитательницы углового cтолика, над которым висит пейзаж Эдварда Морана — спасатель с собакой и фонарем бредет вдоль берега в полуночную бурю.
Сухая, в одежде зеленых тонов, эта женщина, конечно, то еще зрелище, и она настолько приладилась за бесконечное время к пространству, что стала его украшением, как ростр на носу корабля, или как кариатида… никому даже в хмельном буянстве бы в голову не пришло обратить взор или насмешку в сторону Нины. Я не знаю, чем живет эта женщина неопределенного возраста, примерно от сорока к бесконечности, но иногда к ней за столик подсаживаются беспокойные молодые парни, и они ведут, понизив голос, какие-то полушифрованные беседы о диковинных городах и портах, сыплют именами, утешают и уверяют друг друга — больше она их — в чем-то. Насколько я понимаю, все это как-то связано с Компанией.
— Благодарю вас, — говорит бесцветным голосом с легким кивком мне Нина, смуглая, в высоком черном котелке, она сейчас одна и ничего не выражающий взгляд устремлен куда-то перед собой, насквозь, в другое место. Думаю, она шпионка, координатор. Только вот чья? Не мое это дело. Иногда раньше, когда с ней пытались знакомиться, она не возражала против беседы, и рассказывала о юности.
Насколько я помню, Нина много путешествовала в первые годы века, изучала за океаном растения и дикарей, но потом — и эта часть рассказа обычно заставляла всех чувствовать себя неуютно — ее хороший друг, совсем молодой человек Орландо (как в этом новом английском романе), послушав рассказы Нины, решил сам пересечь океан — и сел в Шербурге на «Титаник». Стал экспонатом самого большого в мире подводного музея ар-деко.
(Бернарду вот-вот войдет, через минуту)
Так что с тех пор Нина оставалась на континенте, потом ограничила свой круг только Лиссабоном, а потом все больше только вот этим уголком моего заведения. На дне ее души, среди неизвестных мне черных водорослей, как будто звучит умиротворенная безысходность принятия, как во второй части «Преображенной ночи» Шёнберга.
— Милостивые государи, не видел ли кто-нибудь, куда запропастился мой табачок? — суетится, чуть не подпрыгивая, диковинный субъект в чересчур длинном фраке с всклокоченной прядью на лбу. — Я ведь только что приобрел его в лавке, ну что за оказия, — он заглядывает под столы и трясет их, глаза безумно крутятся в черепе. — Я отказываюсь существовать без моего милого, прелестного, удивительного табачка!
Поэт, тем временем, продолжает беседу с воображаемым — а нет, это Бернарду, оказывается, он давно вошел и сидит, прямо в шляпе, увлеченно кивает. С темы национализма уже как-то лихо перескочили на эзотерику.
— Господин Соареш, — восклицает ходящий над чернильными безднами. — Минус на минус дает плюс, так? Я имею в виду, что Платон говорил про кровати как копии идеальных кроватей где-то там, мол искусство подражает чувственному миру, это подражание подражанию кровати, ergo оно только бесконечно нас удаляет от подлинного знания, ergo вредно. Но! Исходя из нехитрого правила математики про минус на минус, а также из своего скромного опыта в управляемых грезах, я осмелюсь выдвинуть тезис: сон во сне приближает нас к реальности ближе, чем на это способно бодрствование. Я уверен, что могу это доказать.
— Прекрасная, просто прекрасная идея, — бормочет Бернарду, затем, спохватившись, снимает шляпу, зовет меня и, рассеянно приглаживая волосы, просит принести — нет-нет, не сюда, я сейчас займу отдельный столик вон там — его особый кофе.
Особый кофе — это эвфемизм для непрозрачного кофейника, полного абсентом, уже выгоревшим, подслащенным и готовым для стимуляции нервов. Забавно, что в Лиссабоне «зеленая фея» никогда не была запрещена, в отличие от Лондона или Парижа, однако все равно на тех, кто открыто употреблял абсент, смотрели весьма предвзято. Озабоченный национальным союзом поэт мог себе позволить игнорировать мнение общества, образцовый конторский служащий Бернарду Соареш — нет. Хотя мне лично кажется, что его просто забавляла эта игра в конспирацию.
Бернарду с крайне серьезным и невозмутимым видом наливает себе кофейную чашечку превращенного в жидкость полынного демона и смакует напиток. По его лицу проходит быстрая рябь возбуждения-расслабления, бомбардируемые туйоном нервы посылают беспорядочные поначалу сигналы, тонко перенастраивающие зрение и восприятие. Довольный помощник бухгалтера — и великий, ничего не издавший поэт — жмурится, окунаясь во внутреннюю эйфорию, снимает свои круглые очки и медленно трет переносицу, затем протирает стекла. Через какое-то время я подхожу к его столику, якобы чтобы сменить салфетки, и улыбаюсь, когда Бернарду, надев очки, изумленно, как каждый раз, глядит на меня и восклицает:
— Ба, господин Артифекс! Вы — и в таком месте. Вот это встреча.
— Всегда к вашим услугам, — говорю я ему, оглядываюсь — никто не обращает внимания — и подсаживаюсь. То ли абсент прожгли халтурно, то ли просто Бернарду успел осилить уже не первую чашку, но он быстро пьянеет. Спрашивает, часто ли мы так встречаемся, а то он не помнит. Регулярно, говорю, и ведем при встрече схожую весьма беседу. О чем же? А вы попробуйте задать вопрос, что лежит на душе, и все повторится. Бернарду думает, уставившись в дрожащую, источающую степной аромат лужицу на дне чашки. Затем поднимает глаза с вопросом.
— Могли бы мы снова…
— Нет, — говорю я так мягко, как только могу.
— Но в этот раз я…
— Нет, Бернарду. У вас не вышло, и в жизни возможен лишь один такой шанс.
— Почему не вышло? Я не помню, что произошло?
— Тогда, до войны, вы предложили Ему себя как сосуд и были услышаны. Но не получилось. Вы раскололись, расщепились — и ваши сны теперь живут отдельной жизнью, чуть не поменявшись с вами.
— Вот как.
— Они даже… ведут какую-то деятельность, которая Ему не по нраву. Но из уважения к вам и вашей попытке… да и из-за малой эффективности их проекта, честно говоря, ни к вам, ни к тем, кто отщепился, не будут применены никакие санкции. Вас не обвиняют. Но помнят.
— Но все же… — настаивает Бернарду. — Между мной и Им ведь куда больше сходства, чем различения? Мы, и я, и он, лишились своих единственных возлюбленных и возлюбили печаль…
— Бернарду, — говорю резко. — Вас уважают, но это уже наглость.
— Я мог бы быть ИМ, — тупо говорит он, в зрачках плещется алкоголь. Скоро он снова забудет, но чувство, это чувство не уйдет никуда и никогда, пока он дышит.
— Да, вы могли бы быть ИМ. Я не знаю, почему вышло у Томсона и не вышло у вас. Я правда не знаю.
Самое время, встаю и ухожу. Когда через пару минут я смотрю в сторону его столика, там лежит только банкнота, придавленная кофейным блюдцем.
***
Сумерки богов распростерлись сквозь воздух улицы. Боги часов, боги минут, боги шагов и вздохов сереют шкуркой и увядают по мере того, как распускается пустота и льется лиловый цветок заповедного вечера, таинство двориков, вечная тайна теней. Я иду в свою комнату там, на улице Золотильщиков, и вверху на меня смотрят звезды, и внизу на меня не смотрят корни, и кости, и бесконечность плотных напластований.
Я вижу погашенное окно моей конторы на третьем этаже, которое снова зажжется уже через какие-то несколько часов, и я буду там, смотря на то место улицы, где я стою теперь, и силясь увидеть себя вчерашнего. В этом черном проеме теплотой искрится мое обещание завтрашнего лабиринта, гарантия, гавань, причал, как сама эта улица Золотильщиков, от которой теперь моя утлая лодочка отойдет разве что в вечность. Вечность! Звездная… пыль.
Во внезапном порыве на полпути домой я сворачиваю в мавританский сумрак, другой дорогой кружу, выбираю другие объекты взгляда, ищу чего-то, кого-то, что-то, что произойдет. В обескровленном, но освященном вечере этого воскресенья не происходит ничего, кроме смутного обещания, и оно — обманка, эрзац того обещания, что я ныне приветил в окне моего повторения. Вздор! Пора в постель.
***
Добравшись до дома, Бернарду ложится в постель и, против обыкновения, засыпает сразу. Ему снится шум прибоя, шелест и шепот находящей седой волны, серебристая гладь нескончаемого разлива…
Где-то в качественно другом месте группа фигур — разночинно и странно одетые трое мужчин, старец и властная женщина — церемонно сидят за столиком в неосвещенном кафе. Они молчат, руки сложены, взгляды пронзают пространство. Наконец в нем рождается смутное завихрение, клубление элементов, и в воздухе над фигурами повисает огромный нечеткий лик, широко в испуге открывшее очи лицо Бернарду, неморгающее, немое, зависшее на полпути между двух миров.
Пять фигур церемонно кланяются, затем слово берет женщина по имени Катарина, ограничившая приветствие их Творца в этот раз только легким кивком.
I AM HISTORY!
— так сказал бы колонизатор, владыка Нового Света, повелитель морей и книг.
Я говорю: я — история.
Я стою на углу одной из многих улиц Байши, чуть покачиваясь, как будто мою фигуру колышет незримый ветер. Мой взгляд устремлен на табачную лавку на той стороне дороги — в дверях ее, заложив большие пальцы за полы сюртука, стоит, щурясь, довольный хозяин, мальчишка-посыльный рядом глазеет на меня, едва не разинув рот.
Мой взгляд устремлен выше вывески табачной лавки и выше этой реальной улицы в нежной тревоге бегущего прочь воскресенья, тревоге такой обеззубленной и беспечной, что она как патока, искусно пропитывающая необязательность каждого жеста, посыла, каждой отмеренной тиком часов минуты.
Я — НИКТО.
Мой взгляд устремлен на каскадные гроздья миров, на многоглазье других реальностей, под видом решетки перистых облаков, распростершихся в высоте над табачной лавкой. Я знаю, что их никто не видит, кроме меня, эти вовсе не таящиеся колодцы, оконные рамы, проемы в миры, которые так не похожи на этот и так же не интересуются чем-то, кроме себя.
Я НИКЕМ НИКОГДА НЕ БУДУ.
Иногда во снах я вижу особым тактильно-дыхательным зрением — так, должно быть, видят опытные слепые — как души во тьме этого мира начинают давить на пленку, обтягивающую коридоры моих тихих дней, как они напирают, подобно массе тяжелых шаров, как невидящие глаза, выпученные извне, и они все стремятся прорваться ко мне, потому что я вижу их, и всякий раз тогда я просыпаюсь от звука рвущейся пленки и тяжело дышу, стараясь унять сердцебиение, а кончики пальцев рук так странно зудят, точно ими я сдерживал эту мощь, совсем не пугающую и, наоборот, притягательную в свете дня.
Мне кажется, чаще всего во снах мы ниже себя самих, мы отсутствуем, и в этом отсутствии нет того благородства, которое чувствуется в пустом троне, скорее это отсутствие до-создания, столь же скучное, каким скучным был этот мир до появления разума, способного мыслить и грезить.
И ЗАХОТЕТЬ СТАТЬ КЕМ-НИБУДЬ Я НЕ МОГУ.
Время остановилось. Я всегда теперь буду смотреть на табачную лавку через дорогу в Байше, ловить на полуподлете удивленно-тупой любопытствующий взгляд мальчишки, чувствовать летнюю лень хозяина и смотреть, покачиваясь, содрогаемый ветром пространств, ни для кого не присутствующих, как над крышами Лиссабона в облаках вращается калейдоскоп миров.
Может быть, это только игра облаков и уходящего света на утомленных рабочей неделей нервах? Нет, память моя, хотя и рассеяна, помнит свои частички, простирается далеко-далеко. Ведь я не всегда был Бернарду Соареш, сорокалетний помощник бухгалтера с улицы Золотильщиков, где я также живу.
Я был однажды (и буду всегда, ибо память живет не во времени) мальчиком, что бежал по широкой поляне — разросшемуся травой спортивному стадиону? — не отзываясь на окрик родителей за спиной, и глядел на вот такие же, как сейчас, облака, обращенные багровым колдовством в замки и лики чудищ, говорящие монументы, и — как и сейчас — на проемы пространств, за которыми жизнь шла другими путями, закрывшимися для взрослых умов.
НО МЕЧТЫ ВСЕГО МИРА ЗАКЛЮЧЕНЫ ВО МНЕ.
Мне не снится такое во снах, потому что я сторговал эту реальность за сны наяву. Во снах мне нечего делать, ведь я все успел, пока мое тело прилежно сверяло отметы для господина Вашкеша в конторе на улице Золотильщиков, том единственном образе человечества, с которым я соприкасаюсь каждый рабочий день.
Сегодня — мое непокойное воскресенье, день, когда нужно дать себе отдых. И что же мне снилось сегодня? Какой-то воздвигшийся у Лиссабона мост из бетона и страха, очень похожий на тот, что в Америке. Помню странные автомобили, таких у нас еще нет.
Доносятся звуки. Время все-таки движется, значит, моя греза об ожерелье миров для некоронованного сердца присутствия — скоро рассеется.
О если б закрытые двери могли только вообразить, сколькими путями можно слететь с петель! Что, если бы нашу планету освещало два солнца, а не одно? Иная базовая метафора для абстракций размером в жизнь. Что, если бы глаголы и существительные поменялись местами, и люди бы воспринимали мир так и не знали бы, что бывает иначе? Мы с другом бегом спустились к парку — бежание в направлении парка обрело форму меня и друга.
Что, если бы идея чистоты и на бытовом, и на символическом уровне не стала бы стержнем, вокруг которого выстраивается любой ритуал и поступок? Что, если бы мы все были бестелесными и бесприютными духами, жаждущими воплощения на короткий жизненный срок, и полная страданий жизнь во плоти была бы конечной целью наших религий?
Что, если бы жизнь и вправду была грамматически правильной, как предложения, которыми мы пытаемся ее описать? Что, если бы много личностей в одном уме были бы нормой, а люди, у которых есть только одно «Я», считались бы кем-то вроде бездомных, объектами жалости и презрения…
Но довольно. Хозяин табачной лавки мне улыбается и приветливо машет рукой.
***
Внутри душистого помещения табачной лавки легко и уютно, беспечно, как будто ты нож и идешь сквозь воск. Как обычно, хозяин хвалится новыми образцами, привезенными из далеких стран, из забытой Африки, из неизвестных Америк, и я, как обычно, киваю и приказываю завернуть тот же самый сорт табака, который беру всякий раз. Мы довольны друг другом. Общение по лекалам сшивает реальность крепче и дает хорошее настроение.
Я закуриваю прямо на улице и прислушиваюсь, куда ноги желают меня нести, пока голова наполняется приятной глупостью дыма. Где-то там, на не слишком далеких задворках телесных тканей начинает ассоциативно вращаться знакомый алчный цветок, пока крохотный водоворот, желающий алкоголя. Позже. Я хочу идти в непокой, раздерганность этого воскресенья до самых корней и лишь после припасть к источнику древнего отдохновения.
В желтом свете старогазетного дня я слоняюсь, скользя по улицам, по которым могу уверенно двигаться и без глаз, и без самого себя — как часто делаю в скучных снах. Мимо книжных витрин Английского магазина (Офелия! о нимфа), мимо памятника божественному Камоэнсу (вперяю вдаль отчаянное око), мимо рыночной площади, которую бы я написал в других красках, но я не живописец, да она и так хороша.
Чувствую, будто взгляд со стороны, приглядываюсь и вздрагиваю — там лепилась к балкончикам и помятым рамам непритязательная, приземленная, до ошеломления настоящая жизнь. Дома облепляет время, бесстыдное в своей скорости, и я прихожу к заключению, что вся жизнь — это такое вот воскресенье. Лень, попытка расслабиться, нетерпение, скорей-скорей, суетливый омут, случайная шутка — и вот в понедельник вдруг наступает смерть, а так ничего по сути и не случилось. А что с ними может случиться? А что — со мной?
Я оказываюсь на причале. Кажется, уже настала секунда, когда масса солнца его перевесила и теперь тянет вниз. Хорошо, мало есть более невпечатляющих и бессмысленных зрелищ, чем край мира в сверкании дня. Край мира, край старого света. Я пытался однажды, в особенно скучный конторский день написать оду именно об этом конкретном причале. Но он рассыпался и рассыпался на символы, отголоски, отображения, и мне в руки давалась лишь только идея Причала, Причала причалов, сияющая трепетавшая рыба платоновской истины, которую я с отвращением снова и снова забрасывал в море чернил, а она выплывала обратно.
Звуки громче и чаще смех, а цвета — понемногу тускнеют. Пора бы и мне в таверну.
Но куда же? К Абелю? В этот его чертог виноделия, горделивый, двумя исполинскими глазоокнами выглядывающий на дне души потребность в чарах лозы. А если из стерео сделать моно, сощуриться, оставив в поле зрения только один застекленный круг — то ты словно на пароходе, иллюминатор-гигант, или точно в соборе, где витражи лишены рисунков, но многое на них чертится самим охмеленным воображением.
Длинные стойки, точно длящиеся из самой зарницы истории, из пиршественного зала Тимея, за стойками — безукоризненно вежливые офицеры винных войск генерала Абеля де Перейры, улыбчивого магната в небольшом теле с круглой загадочной головой. Как много прекрасных часов, вечеров, прозрений было проведено и обретено у Абеля! Но вот незадача, там негде толком присесть. Политика заведения: ты должен уметь устоять на своих двоих — все же это не есть кабачок и никоим образом не воскресный трактир, это чертог, территория винноцветного моря вечерних будней для пары стаканов.
Сегодня же, в непокойное воскресенье, мне нужно другое место, мне нужен тот кабак на границе вечера, заведение у Раймундо, где помощник бухгалтера с улицы Золотильщиков сможет присесть и дать вольный отдых утомленному этим предписанным отдыхом телу.
***
Кабачок «У Раймундо» отнюдь не велик, разноцветием и разборчивостью обстановки и публики он похож на смелый сезонный салат. На границе вечера здесь установилась своя закрученная атмосфера, ее слагают тепло, удивление и экранированность от времени. Время наружное, ползущее спазматически к боязливым последним радостям отмеренного рабочему люду дня перерыва — это время плотно отбаррикадировано и хнычет снаружи, в такт зачинающемуся дождю.
Лиссабон так хорош, когда дождь размывает время, и стоящие над потоком темные влажные булыжники мостовых вдруг ведут за пределы систем.
(Бернарду войдет через четыре минуты)
Раймундо Рейш (дальний родственник Рикардо Рейша, поэта), чью личину теперь я принял, с улыбкой добродушной и гладковыбритой, как и лицо, разглядывает зал с редкими, удивительными образцами людской породы. Они не коротают время, но изживают его в диалоге, всегда обращенном к тому, что не может слышать и понимать — но зачем-то всегда отвечает.
Вот, допустим, поэт, воздыхающий, очень стереотипный от непокорных волос до вольной одежды и грустного взора. Третий номер журнала с его сонетами о поиске белого млека сердца в тенях лиссабонской ночи — так и не вышел. Типография занята — наверное, прокламациями о новом курсе на модернизацию, которой решил добиться свежеизбранный министр финансов Салазар, странный малый, профессор, но с кардинальским тоном.
Поэту грустно, он пытается быть поэтом, поэтически топит себя в вине, когда не выходит, и очень переживает, что люди — какие еще люди? — его не прочтут. Я слегка неодобрительно (пока он не видит) качаю головой, наливая ему новый стакан. Мне больше по душе творцы вроде господина Бернарду Соареша, которые трудятся в поте лица своего на улице Золотильщиков, оставляя письменные забавы на час досуга, и не помышляют о том, чтобы определять себя как «поэта». Всеглазый, прости!
(Бернарду войдет через три минуты)
Или вот, допустим, двое молодых людей сидят и играют в игру, завороженные и ей, и собой, и друг другом, и особым пространством, что возникает на срезе всех этих фактов. В игре используется доска и фигурки, и я каждый раз, когда подношу им выпить, силюсь разобрать, что же там происходит, но не могу. Вроде бы ничего азартного, я бы такое не потерпел в этих стенах, но и правил таких нигде не написано. Фигурки людей, яркие геометрические формы, литые и плетеные значки, означающие интегралы и уровни… все словно взято из разных наборов! А может, они придумывают игру на ходу? Заглядываю им в лица и силюсь прочесть ответ, но юноши невозмутимы.
Один — музыкант, и его гитара (или что это, теорба?) прислонилась к столику крепко, как пьяный, обнявший столб. Его собеседник — работает на Компанию, название которой избегает произносить всуе. Он убеждает музыканта оставить неопределенность и заработать денег. Тот резонно указывает, что денег всегда не хватает, а свобода у человека одна.
— Ты мог бы не пить, а откладывать на то, чтобы уехать из Лиссабона, верно? — говорит музыкант.
— Я пью, чтобы прийти в себя после работы, а ты-то зачем?
— Чтобы уйти от себя.
— Какая чудесная вещь алкоголь, служит всякой цели! — музыкант протягивает было руку к фиолетовому кубу на доске, на нем крохотная фигурка верблюда, потом отдергивает. — Нет, надо подумать.
— Думай, думай, — восклицает компанейский. — Скоро нам дадут новые пастбища. Модернизация! Рев прогресса.
— За ним не слышно музыки.
— Он и есть новая музыка. Кто вообще играет еще на теорбе?
— Робер де Визе. Он пришел ко мне в образе ангела, когда я лежал пьяный у площади, и сказал «сын мой, ну ты, однако, даешь».
— Так ты подумаешь? Новый набор открыт.
— Да, я подумаю.
Цилиндр, покрытый чем-то блестящим, движется под чутким пальцем того, из Компании, и пересекает всю доску наискось.
— Гм, — говорит опять музыкант. — Тут надо подумать.
— Да думай, думай. Раймундо! Можно еще?
— Конечно, — говорю я, видимый им как кабатчик Раймундо Рейш. Я повидал много — больше, чем есть галактик в видимом универсуме — перепутий, сомнений и точек, когда меняется траектория, и мне хочется сообщить музыканту, который, кажется, вот-вот проиграет, что ни одно виденное мной решение, ни хорошее, ни плохое, не принималось как итог глубоких раздумий, а раздумья ведут только лишь к упущению шанса. Я молчу и подливаю еще вина. У окомпаненного молодого человека замечаю впервые значок на лацкане — глаз в окружении трех схематических птиц.
Музыкант не отрывает взгляд от доски, сцепив руки под подбородком.
(Бернарду войдет через две минуты)
— Но вот чего я не могу взять в толк, — раздраженно продолжает вслух, кажется, сам с собою, печальный поэт. — Неужели нас правда так нужно сбивать в кучу по кровному признаку, как зверей, чтобы что-то реализовать? Неужели провал испанского нацпроекта дона Примо де Ривера ничему этого Салазара не научил? Какой еще португальский Национальный союз?
Он выдерживает паузу, точно слушая ответ невидимого собеседника, и кивает, а я прохожу мимо с подносом, дивясь, неужели пленитель слов наконец лишился остатков разума.
Поднос движется гладко через пространство кабачка, точно античная триера, почти не покачиваясь, проплывает мимо огромных осоловелых циклопов, приклеившихся к стульям-утесам. Одинокий коктейль в высоком стакане цвета задумавшегося океана предназначен для Нины, постоянной обитательницы углового cтолика, над которым висит пейзаж Эдварда Морана — спасатель с собакой и фонарем бредет вдоль берега в полуночную бурю.
Сухая, в одежде зеленых тонов, эта женщина, конечно, то еще зрелище, и она настолько приладилась за бесконечное время к пространству, что стала его украшением, как ростр на носу корабля, или как кариатида… никому даже в хмельном буянстве бы в голову не пришло обратить взор или насмешку в сторону Нины. Я не знаю, чем живет эта женщина неопределенного возраста, примерно от сорока к бесконечности, но иногда к ней за столик подсаживаются беспокойные молодые парни, и они ведут, понизив голос, какие-то полушифрованные беседы о диковинных городах и портах, сыплют именами, утешают и уверяют друг друга — больше она их — в чем-то. Насколько я понимаю, все это как-то связано с Компанией.
— Благодарю вас, — говорит бесцветным голосом с легким кивком мне Нина, смуглая, в высоком черном котелке, она сейчас одна и ничего не выражающий взгляд устремлен куда-то перед собой, насквозь, в другое место. Думаю, она шпионка, координатор. Только вот чья? Не мое это дело. Иногда раньше, когда с ней пытались знакомиться, она не возражала против беседы, и рассказывала о юности.
Насколько я помню, Нина много путешествовала в первые годы века, изучала за океаном растения и дикарей, но потом — и эта часть рассказа обычно заставляла всех чувствовать себя неуютно — ее хороший друг, совсем молодой человек Орландо (как в этом новом английском романе), послушав рассказы Нины, решил сам пересечь океан — и сел в Шербурге на «Титаник». Стал экспонатом самого большого в мире подводного музея ар-деко.
(Бернарду вот-вот войдет, через минуту)
Так что с тех пор Нина оставалась на континенте, потом ограничила свой круг только Лиссабоном, а потом все больше только вот этим уголком моего заведения. На дне ее души, среди неизвестных мне черных водорослей, как будто звучит умиротворенная безысходность принятия, как во второй части «Преображенной ночи» Шёнберга.
— Милостивые государи, не видел ли кто-нибудь, куда запропастился мой табачок? — суетится, чуть не подпрыгивая, диковинный субъект в чересчур длинном фраке с всклокоченной прядью на лбу. — Я ведь только что приобрел его в лавке, ну что за оказия, — он заглядывает под столы и трясет их, глаза безумно крутятся в черепе. — Я отказываюсь существовать без моего милого, прелестного, удивительного табачка!
Поэт, тем временем, продолжает беседу с воображаемым — а нет, это Бернарду, оказывается, он давно вошел и сидит, прямо в шляпе, увлеченно кивает. С темы национализма уже как-то лихо перескочили на эзотерику.
— Господин Соареш, — восклицает ходящий над чернильными безднами. — Минус на минус дает плюс, так? Я имею в виду, что Платон говорил про кровати как копии идеальных кроватей где-то там, мол искусство подражает чувственному миру, это подражание подражанию кровати, ergo оно только бесконечно нас удаляет от подлинного знания, ergo вредно. Но! Исходя из нехитрого правила математики про минус на минус, а также из своего скромного опыта в управляемых грезах, я осмелюсь выдвинуть тезис: сон во сне приближает нас к реальности ближе, чем на это способно бодрствование. Я уверен, что могу это доказать.
— Прекрасная, просто прекрасная идея, — бормочет Бернарду, затем, спохватившись, снимает шляпу, зовет меня и, рассеянно приглаживая волосы, просит принести — нет-нет, не сюда, я сейчас займу отдельный столик вон там — его особый кофе.
Особый кофе — это эвфемизм для непрозрачного кофейника, полного абсентом, уже выгоревшим, подслащенным и готовым для стимуляции нервов. Забавно, что в Лиссабоне «зеленая фея» никогда не была запрещена, в отличие от Лондона или Парижа, однако все равно на тех, кто открыто употреблял абсент, смотрели весьма предвзято. Озабоченный национальным союзом поэт мог себе позволить игнорировать мнение общества, образцовый конторский служащий Бернарду Соареш — нет. Хотя мне лично кажется, что его просто забавляла эта игра в конспирацию.
Бернарду с крайне серьезным и невозмутимым видом наливает себе кофейную чашечку превращенного в жидкость полынного демона и смакует напиток. По его лицу проходит быстрая рябь возбуждения-расслабления, бомбардируемые туйоном нервы посылают беспорядочные поначалу сигналы, тонко перенастраивающие зрение и восприятие. Довольный помощник бухгалтера — и великий, ничего не издавший поэт — жмурится, окунаясь во внутреннюю эйфорию, снимает свои круглые очки и медленно трет переносицу, затем протирает стекла. Через какое-то время я подхожу к его столику, якобы чтобы сменить салфетки, и улыбаюсь, когда Бернарду, надев очки, изумленно, как каждый раз, глядит на меня и восклицает:
— Ба, господин Артифекс! Вы — и в таком месте. Вот это встреча.
— Всегда к вашим услугам, — говорю я ему, оглядываюсь — никто не обращает внимания — и подсаживаюсь. То ли абсент прожгли халтурно, то ли просто Бернарду успел осилить уже не первую чашку, но он быстро пьянеет. Спрашивает, часто ли мы так встречаемся, а то он не помнит. Регулярно, говорю, и ведем при встрече схожую весьма беседу. О чем же? А вы попробуйте задать вопрос, что лежит на душе, и все повторится. Бернарду думает, уставившись в дрожащую, источающую степной аромат лужицу на дне чашки. Затем поднимает глаза с вопросом.
— Могли бы мы снова…
— Нет, — говорю я так мягко, как только могу.
— Но в этот раз я…
— Нет, Бернарду. У вас не вышло, и в жизни возможен лишь один такой шанс.
— Почему не вышло? Я не помню, что произошло?
— Тогда, до войны, вы предложили Ему себя как сосуд и были услышаны. Но не получилось. Вы раскололись, расщепились — и ваши сны теперь живут отдельной жизнью, чуть не поменявшись с вами.
— Вот как.
— Они даже… ведут какую-то деятельность, которая Ему не по нраву. Но из уважения к вам и вашей попытке… да и из-за малой эффективности их проекта, честно говоря, ни к вам, ни к тем, кто отщепился, не будут применены никакие санкции. Вас не обвиняют. Но помнят.
— Но все же… — настаивает Бернарду. — Между мной и Им ведь куда больше сходства, чем различения? Мы, и я, и он, лишились своих единственных возлюбленных и возлюбили печаль…
— Бернарду, — говорю резко. — Вас уважают, но это уже наглость.
— Я мог бы быть ИМ, — тупо говорит он, в зрачках плещется алкоголь. Скоро он снова забудет, но чувство, это чувство не уйдет никуда и никогда, пока он дышит.
— Да, вы могли бы быть ИМ. Я не знаю, почему вышло у Томсона и не вышло у вас. Я правда не знаю.
Самое время, встаю и ухожу. Когда через пару минут я смотрю в сторону его столика, там лежит только банкнота, придавленная кофейным блюдцем.
***
Сумерки богов распростерлись сквозь воздух улицы. Боги часов, боги минут, боги шагов и вздохов сереют шкуркой и увядают по мере того, как распускается пустота и льется лиловый цветок заповедного вечера, таинство двориков, вечная тайна теней. Я иду в свою комнату там, на улице Золотильщиков, и вверху на меня смотрят звезды, и внизу на меня не смотрят корни, и кости, и бесконечность плотных напластований.
Я вижу погашенное окно моей конторы на третьем этаже, которое снова зажжется уже через какие-то несколько часов, и я буду там, смотря на то место улицы, где я стою теперь, и силясь увидеть себя вчерашнего. В этом черном проеме теплотой искрится мое обещание завтрашнего лабиринта, гарантия, гавань, причал, как сама эта улица Золотильщиков, от которой теперь моя утлая лодочка отойдет разве что в вечность. Вечность! Звездная… пыль.
Во внезапном порыве на полпути домой я сворачиваю в мавританский сумрак, другой дорогой кружу, выбираю другие объекты взгляда, ищу чего-то, кого-то, что-то, что произойдет. В обескровленном, но освященном вечере этого воскресенья не происходит ничего, кроме смутного обещания, и оно — обманка, эрзац того обещания, что я ныне приветил в окне моего повторения. Вздор! Пора в постель.
***
Добравшись до дома, Бернарду ложится в постель и, против обыкновения, засыпает сразу. Ему снится шум прибоя, шелест и шепот находящей седой волны, серебристая гладь нескончаемого разлива…
Где-то в качественно другом месте группа фигур — разночинно и странно одетые трое мужчин, старец и властная женщина — церемонно сидят за столиком в неосвещенном кафе. Они молчат, руки сложены, взгляды пронзают пространство. Наконец в нем рождается смутное завихрение, клубление элементов, и в воздухе над фигурами повисает огромный нечеткий лик, широко в испуге открывшее очи лицо Бернарду, неморгающее, немое, зависшее на полпути между двух миров.
Пять фигур церемонно кланяются, затем слово берет женщина по имени Катарина, ограничившая приветствие их Творца в этот раз только легким кивком.

