ВЕДЬМОПРИЧАЛ
выпуск второй
выпуск второй
Подробности про второй роман Кауфельдта, третий роман Гелианова,
шутки за 300 про Сорокина, Аксенова, Улитина, Стивена Кинга
и многоактную структуру
Дата расшифровки: 28.08.2025 17:59
шутки за 300 про Сорокина, Аксенова, Улитина, Стивена Кинга
и многоактную структуру
Дата расшифровки: 28.08.2025 17:59
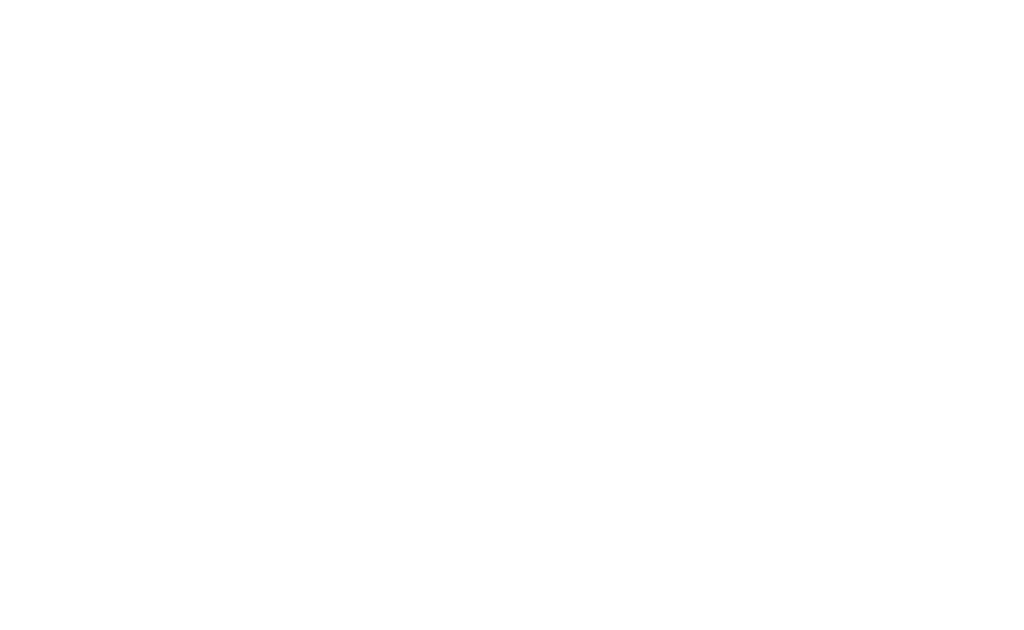
(Подкаст начинается спонтанно с середины фразы, почему так произошло, нам неизвестно, равно как и почему вообще мы обсуждаем именно это, оставьте на волю своего воображения — А.Г.)
КАФЕЛЬ: …Я один раз в жизни пил штуку, которая называлась коньячный спирт, и реально из канистры такой нам наливали, это было в одиннадцатом классе на стадионе за школой. Больше я такого себе не позволял.
ЛОФТ: Это был именно спирт-спирт?
КАФЕЛЬ: Ну, вот какая-то штука, которая называлась коньячный спирт. То есть НЕ коньяк, а вот баряба какая-то… Из канистры так наливаешь в стаканчик, пьешь, яблочком закусываешь. Ну, было приятно, не противно, как обычно со спиртом.
ЛОФТ: Потому что коньячный спирт, он не девяносто шесть градусов, он пятьдесят пять-семьдесят.
КАФЕЛЬ: Я просто вчера в метро начал читать Олега Куваева. Это советский писатель, который написал роман «Территория» знаменитый, по которому сериал и фильм сняли, перевели эту «Территорию» на сто языков, это про золотоискателей, советский роман.
АСАП: А автор Масяни — не родственник его?
КАФЕЛЬ: Не, автор Масяни — родственник Саши Васильева из «Сплина».
АСАП: Вот это твист.
КАФЕЛЬ: Короче, я стал читать не «Территорию», самый его знаменитый роман, а другой роман, второй, «Правила бегства». Написал его он, не дописал — не помню уже, но помер в сорок лет. Был он экстремальный турист. Начинаю читать этот второй роман: там тоже про оленеводов, про лесорубов в тайге. И тут же на пятой или шестой странице романа чуваки начинают рассказывать эту байку о том, что в Якутии зимой одеколон по лому сливаешь; все вредное, вся сивуха остается на ломе и замерзает, а чистый спирт не замерзает и стекает в стакан, и это можно пить. И я думаю, господи, да хватит уже. Потому что это у Аксенова было, у Битова было, еще у кого-то было. Вот эта одна байка, она кочует по всей советской литературе из романа в роман. Потом они достали просто две бутылки спирта и начали этот спирт пить. Короче, высокая литература.
ЛОФТ: Это жизненный опыт, понимаешь? И есть какие-то штуки, которые, ну, хочешь-не хочешь, дублируются. Есть вещи, через которые многие проходят. Поэтому жизненный опыт — он важен для писателя.
КАФЕЛЬ: Теперь я знаю, как пить тормозную жидкость на севере Якутии, да.
ЛОФТ: В том числе и тормозную жидкость!
КАФЕЛЬ: Это как в фильме Пола Томаса Андерсона «Мастер» с Хоакином Фениксом: они же когда на авианосце плавали, есть эпизод, где он из ракеты откуда-то шланг отрывает и оттуда сливает жидкость из ракеты себе… Но они по лому ничего не сплавляли, они ее чистоганом пили.
АСАП: Ну тупые!
КАФЕЛЬ: Не знаю, что это было, тормозная жидкость у ракеты там. Какой там год, я не помню?..
ЛОФТ: У ракеты ракетное топливо наверное было, и они его… Ну, опять же…
КАФЕЛЬ: И потом был — все, сейчас я заткнусь! — самый незабываемый эпизод в фильме «Мастер», гениальный, когда он устраивается работать фотографом в универмаг в Нью-Йорке, к нему приходит какая-то модель, и он ей смешивает коктейль из фотохимии: из проявителя, из чего-то еще, и потом так щипцами лимончик туда БЫМС! — дает ей, и потом так спрашивает: «Вкусно?» Все!
ЛОФТ: Во-первых, почему все?! Продолжай, это интересно.
АСАП: Сеньоре модераторе, давайте как-нибудь структурируйте происходящее, пожалуйста.
ЛОФТ: Я как раз к тому и вел, что все вот это происходящее в книгах, о чем говорил Кафель — оно в том числе опирается на жизненный опыт. И вот вопрос: жизненный опыт, он необходим писателю? Нужно на него опираться, или все-таки это чистая фантазия из головы и порождение грез, снов и чего-то еще? Или все-таки с опорой на какие-то реальные факты из биографии; жизненный опыт, если говорить короче.
КАФЕЛЬ: Писателю важен литературный опыт, ему важна начитанность. Чем больше он прочитал, тем у него башка работает лучше, а жизненный опыт может в разные степи завести.
ЛОФТ: Может завести, но… Не знаю, кого тебе привести в пример. Буковски, например.
КАФЕЛЬ: Ну что, у него был большой жизненный опыт? Да вроде нет, он, наоборот, читал много.
АСАП: Ну поработай на почтамте американском двадцать лет начиная с пятидесятых годов.
ЛОФТ: И напиши потом прекрасную книгу об этом, да.
АСАП: Я «Почтамт» обожаю, кстати, это одна из моих любимейших книг, там такой слепок жизни, просто на каком-то таком примитивном мышечном совершенно уровне, и это восхитительно, и это смешно, и это очень…
ЛОФТ: …и это очень важный вопрос, потому что Кафель считает, что нужна начитанность, все-таки литературный опыт.
АСАП: Я, естественно, с Кафелем не соглашусь, потому что литературный опыт важен, но если нет какого-то жизненного опыта собственного, то литературный опыт легко можно понять неправильно, или он останется просто какой-то эстетической проекцией собственной фантазии, какими-то такими кружавчиками.
ЛОФТ: А это плохо?
АСАП: Это не плохо, просто это, мне кажется, не так сильно пронизывает читателя, не так сильно до него доходит, чем если какой-то свой реальный жизненный опыт трансформировать, трансмутировать и вкручивать в текст. Причем речь не о том, что… Ты там работал комбайнером или стрелял бандитом на улицах, или занимался какими-то берроузовскими нелегальными делами. Смысл в том, чтобы иметь определенные эмоции от жизни, определенный опыт переживаний, наблюдений, а вкручивать это можно в совершенно другой контекст и таким образом его оживлять. И, разумеется, да, писатель должен быть начитанным, потому что быть начитанным вообще лучше, чем быть неначитанным, потому что книги — это офигенно!
ЛОФТ: Цитаты великих людей. Дай я запишу.
АСАП: Просто люди, у которых только эстетический и литературный опыт был в жизни — это часто по ним чувствуется, чувствуется в их суждениях, в том числе о других книгах, чувствуется в том, что они сами пишут. Даже если свой жизненный опыт какой-то кринжовый, неудачный, но свой — это лучше, чем если его нет вообще. Поэтому меня очень печалит, когда я вижу молодых людей, которые вместо того, чтобы в семнадцать-восемнадцать лет сниматься из дома, уезжать за тысячи километров и работать вахтовиком, сидят, учатся, работают и пишут книги в итоге, и получается… автофикшн, и получается в итоге так называемая русская литература. Простите.
КАФЕЛЬ: В том числе у них это и от неначитанности происходит, потому что они прочитали восемь книжек и вот ту синюю, и все, они думают, что, ну, все жанры литературы мной охвачены, типа, и я смогу…
АСАП: Я согласен с тобой, безусловно в этом, Кафель, но я, скорее, к тому, что ограниченный человек может пятьдесят книг прочитать, и он их все прочитает не тем местом, которым книги надо читать. Они у него не так лягут в голове, как они лягут у человека, который что-то в жизни прохавал. Ну, как мне кажется.
КАФЕЛЬ: Если он читает жопой, они не так лягут в жопе у него.
ЛОФТ: Есть такая идея, что люди любят узнавание, да? Наверное, читатели тоже любят узнавание. Когда ты видишь в написанном какое-то реальное переживание, через которое ты сам, в том числе, мог пройти, может быть, оно на тебя по-другому повлияет? Ты вот это тоже имеешь в виду, Асап?
АСАП: В том числе, но мне кажется, люди в большей степени любят зеркала, чем узнавания. Потому что людям не хватает…
ЛОФТ: Узнавание себя — это еще лучше, конечно.
АСАП: Это гораздо лучше, потому что когда мы читаем «Радугу тяготения», насколько на самом деле мы узнаем Томаса Пинчона, когда мы читаем «Улисса», насколько мы узнаем Джойса? А насколько мы просто в зеркале этих чудесных текстов узнаем какие-то аспекты себя, которые раньше для нас были недоступны. Мне кажется, это более важно.
КАФЕЛЬ: Про «зеркала» я хотел сказать, что сегодня на Фантлабе, на форуме, очередной срач про Сорокина небольшой разгорелся — и люди не любят зеркала. Люди, когда читают Сорокина, они смотрятся в зеркало и не понимают, что они смотрятся в зеркало. И так в большинстве случаев происходит. Люди очень не любят зеркала.
АСАП: Не, ну ты экстремальный, конечно, пример зеркала привел.
ЛОФТ: Сорокин в этом плане хорош. Кстати, как раз я хотел привести Сорокина как пример того, насколько он отличается от того, что он пишет. То есть то, что он пишет, это практически противоположно тому, как он живет. Это не его опыт.
АСАП: Ты же с ним встречался, кстати, лично. Может, расскажешь, какой он, по впечатлениям?
ЛОФТ: Барин.
АСАП: У него, по-моему, борзые даже есть, да, в усадьбе?
КАФЕЛЬ: Там не борзые, левретки.
ЛОФТ: На усадьбе у него, к сожалению, не был, но по тому небольшому общению — это ну, абсолютно барин, который очень воспитанно, культурно, очень начитанно, в том числе, разговаривает. И это не то, что ты читаешь в его книгах абсолютно. И, может быть, поэтому ему это так хорошо и удается. Он играет на контрасте, потому что он отстраняется от этого, и у него получается лучше. Но, может быть, это за счет того, что он сам пережил. Не знаю, не знаю. Но это интересная тема насчет жизненного опыта и его отражения в книгах и отражения, которое потом находят там люди.
АСАП: Кстати, такие разные писатели как Берроуз и Борхес столкнулись с одинаковой проблемой, по-моему, даже в одно и то же время, в шестидесятых-семидесятых, когда они стали известными, их стали звать в университеты читать лекции, и Берроуз жаловался, что студенты не ожидали какого-то деда в костюме и галстуке, что они ждали, видимо, я цитирую, что «я буду голым с пристегнутым искусственным членом там прыгать». И Борхес тоже жаловался, что он приходит в университет, там хиппи (он их не видит, но, наверное, запах чувствует) и они тоже смотрят, и типа: этот слепой дед в костюме и галстуке написал «Вавилонскую библиотеку» и все наши остальные любимые рассказы?.. То есть колоссальный такой зазор между автором и творчеством порой бывает. Но я вот думаю, в том числе — на примере Сорокина и на примере этих двух, что… Возможно, консервативно-респектабельный образ жизни, образ бытования, он помогает заземляться и не ебнуться, когда ты работаешь над такими довольно радикальными вещами, над которыми эти все трое работали.
ЛОФТ: Образ жизни заземленной и консервативной — это мы про Берроуза, да, сейчас говорим?
КАФЕЛЬ: А Кастанеду лекции читать не звали?
АСАП: Не, он же скрывался до девяностых годов, пока у него деньги не кончились. Потом звали, но каким-то образом в девяностых никто этого не заснял, что тоже довольно подозрительно. Да, Лофт, Берроуз был вообще-то довольно консервативным южным джентльменом по жизни, ну, после уже своего молодого периода, который, кстати, закончился довольно рано, чуть ли не в начале шестидесятых.
ЛОФТ: Но его-то мы не исключаем, он у него был.
АСАП: Был. И вот такого жизненного опыта, конечно, врагу не пожелаешь. Убил жену: опыт!
ЛОФТ: Хорошо! Берроуз, Кастанеда, Борхес — это все хорошо. Русская литература помимо Сорокина существует?
КАФЕЛЬ: Да! Я сейчас как раз заметки делал, что русская литература, она как бы не в массе своей проявляется, а в отдельных именах. И чем дальше, тем больше имен я могу назвать. Вот в этом году я могу с удивлением назвать Веркина, потому что человек возник из ниоткуда. Он двадцать лет писал страшилки для детей и юношескую литературу. И совершенно был незаметен на других фронтах. И потом он внезапно бахнул «Остров Сахалин», который, если не знаешь, что это Веркин писал — ты думаешь, что это какая-то четвертая часть «Доктора Гарина». Потом бахнул «снарк снарк», просто великий роман, который еще двадцать лет придется осмыслять читателям. И «Сороку на виселице», на которую все лапками махали: Стругацкие, Стругацкие, а там ни фига не Стругацкие. Там вот реально новый слепок какой-то новой приходящей литературы… Вот мы говорили, что настоящая литература не должна признавать жанров, не должна укрываться под какими-то жанровыми рамками. И в «Сороке…», мне кажется, вот это именно и происходит. Веркин, мне кажется, один из таких прорывов, который за собой поведет новые имена.
ЛОФТ: Я читал Веркина «Остров Сахалин», он мне не понравился. Я его читал очень давно, причем я его читал на волне любви к постапокалипсису, когда читал много подобного, и мне сказали, что вот есть такая книжка, мне не понравилось. И я осторожно пропустил «снарк снарк», опять же, из-за плохого впечатления, оставленного «Островом Сахалином». Но «Сороку на виселице» я прочитал, мне безумно понравилось. Начало там, кстати, довольно стругацкое, я прям чувствовал это, а вот потом — да, потом все меняется, конечно. Веркин интересный. Плюс он один из тех, кто создает вселенные, что мне нравится, что делает Сорокин, что делает Пинчон, Стивен Кинг (мы к нему сегодня еще вернемся) когда разные, казалось бы, произведения, но, читая их, ты понимаешь, что они все происходят в одной вселенной. Мы и попробуем сегодня и про Сорокина в этом ключе поговорить. Асап, ты не читал Веркина, не жаждешь?
АСАП: Нет.
КАФЕЛЬ: А он еще не сказал же, что русской литературы не существует.
АСАП: А можно, да?
ЛОФТ: Давай, жги.
АСАП: Да, я считаю, что русской литературы не существует, что это фантом, это довольно опасный фантом, в первую очередь, маркетинговый, во вторую очередь — идеологический. Можно говорить, что русская литература была в девятнадцатом веке. Можно говорить, что она была в двадцатом веке в СССР, потому что реально была какая-то поколенческая преемственность. Большие имена, которые наследовали большим именам, которые продвигали определенные ценности, определенные дискурсы, определенное что-то. Сейчас существуют писатели. Сейчас существуют только отдельные писатели в немалом количестве. Разные люди что-то пишут, вот Веркин что-то пишет, Сорокин, Кафель пишет, я пишу, Рома Декабрев пишет, Денис Безносов, бедолага, тоже пишет что-то. Но литературы в этом нет, нет никакого единого фронта, нет никакого единого комьюнити, нет никакой единой идеи. Есть множество авторов, которые что-то пишут. И когда они пытаются писать что-то вот во имя русской литературы фантомной, то это получается совершенно чудовищно. Когда ставят перед собой такую интеллигентскую задачу по тому, что нужно нам вот это вот все осмыслить. И как бы осознать свою ответственность, и вину свою осознать. И вот народ, и вот интеллигенция, и вот Россия, и вот как бы культура. И это все совершенно чудовищно получается, потому что происходит апелляция к несуществующему фантому. Вот я полушутя говорил много раз, что, наверное, величайший русский писатель, который живет сегодня, это Ева Морозова из ШКЯ. Потому что она занимается тем, чем должен заниматься писатель русский: подмечать темы, интонации, снимать очень точно речь, в том числе разных слоев населения очень маргинальных, находить в этом какой-то космический абсурд и преобразовывать его вот в такой шлакоблок продукта, которым по голове можно ударить, и мозги у тебя эстетически вытекут. Посмотрите недавний ее ролик, «Любая классическая книга русской литературы».
ЛОФТ: А другие литературы существуют? Английская, немецкая, французская?
АСАП: Немецкая точно существует.
ЛОФТ: А чем отличается современная немецкая литература? Я, например, какое-то время интересовался вопросом и пытался собрать современных немецких авторов, чтобы это было как единое что-то. И там тоже разрозненные имена. В принципе, то, о чем говорил Кафель недавно совсем.
АСАП: В целом, да, я думаю, ты, скорее, прав. Я просто языка немецкого не знаю, к сожалению, несмотря на мой интерес к немецкой литературе, поэтому у меня не такое полное впечатление. В основном от Татьяны Александровны Баскаковой я что-то знаю. Есть Альбан Николай Хербст, есть товарищ Йиргль, есть еще какие-то имена, но я подозреваю, что да, современные немцы, скорее всего, их не знают, и что это реально, скорее, одиночки, чем представители какой-то конкретной современной немецкой литературы, но при этом у них есть то, на что они опираются — вот эта модернистская линия: Арно Шмидт, Ханс Хенни Янн, уходящая к Деблину, от Деблина назад к экспрессионистам и далее к романтикам. То есть это очень корявая, конечно, зигзагообразная странная линия, но это линия преемственности все-таки. А в России сейчас, по-моему, такого нет. Вот я прочел сейчас замечательный новый роман Кафеля, и там есть очень много, например, про Аксенова. Но я не могу сказать, что Кафель — последователь Аксенова или что Кафель — последователь Стругацких, хотя эти элементы в нем есть.
ЛОФТ: Это же тоже какая-то преемственность, да?
АСАП: Ну, это то, что находится, по-моему, в писательской ДНК Кафеля. Вот Кафель может мне сейчас сказать, что я не прав во всем, но это не последовательность, это что-то другое. Вот что — я бы хотел понять? Наверное, лучше самого Кафеля спросить об этом, а то чего я фантазирую про него.
ЛОФТ: Вообще, мне очень интересна эта тема, потому что я считал и считаю, что национальных литератур не существует. Потому что если книгу можно загнать в национальные рамки, то это не великая литература. Потому что «Улисс» это не ирландская книга, «Улисс» это общемировая книга. «Замок» Кафки это не… Кто такой Кафка? Это какая литература? Немецкая? Потому что он писал по-немецки? Чешская? Какая?
АСАП: Ты еще спроси, какая литература Бруно Шульц.
ЛОФТ: Бруно Шульц, Борхес… И вот… куда ни ткни… Пинчон — что это, американская литература?
АСАП: Хорошо, но если у нас получается, что вся великая литература — а ты перечислил несколько великих писателей — она наднациональна, то зачем нам нужна национальная литература?
ЛОФТ: Мне лично не нужна, но вот как раз вы сейчас об этом начали говорить, и сама тема интересна. Вот для чего, в принципе, есть этот поиск, это создание какой-то преемственности. Нужно это писателю? Нужно это культуре, нужно это обществу?
КАФЕЛЬ: Я сижу раздумываю над ДНК. ДНК-то есть, но вот чисто в моем случае я, наоборот, стараюсь его скрыть. Я когда рассказы писал, и когда видел, что рассказ получается слишком похожий на Сорокина, я себе говорю: не надо так, ты эпигоном становишься, переделывай. Когда я романы пишу, я снова на себя давлю, чтобы не было похоже на Стругацких, на того, на сего. Я специально Аксенова-то и ввел, чтобы, наоборот, разграничить, что есть Перумов, есть Аксенов, еще кто-то, а у меня вот: у меня там Строгов, у меня свое уже немножко.
АСАП: Ой, слушай, а можно я тебе про Строгова задам вопрос? Во-первых, глава про Строгова, я думаю, лучшая все-таки в романе, она абсолютно великая, и чувствуется, что тебе прям очень было интересно и важно это писать. И я, соответственно, предполагаю, что эта тема для тебя важна. Строгов в твоем романе, название которого мы не можем еще говорить, да?
КАФЕЛЬ: Пока рано.
КАФЕЛЬ: …Я один раз в жизни пил штуку, которая называлась коньячный спирт, и реально из канистры такой нам наливали, это было в одиннадцатом классе на стадионе за школой. Больше я такого себе не позволял.
ЛОФТ: Это был именно спирт-спирт?
КАФЕЛЬ: Ну, вот какая-то штука, которая называлась коньячный спирт. То есть НЕ коньяк, а вот баряба какая-то… Из канистры так наливаешь в стаканчик, пьешь, яблочком закусываешь. Ну, было приятно, не противно, как обычно со спиртом.
ЛОФТ: Потому что коньячный спирт, он не девяносто шесть градусов, он пятьдесят пять-семьдесят.
КАФЕЛЬ: Я просто вчера в метро начал читать Олега Куваева. Это советский писатель, который написал роман «Территория» знаменитый, по которому сериал и фильм сняли, перевели эту «Территорию» на сто языков, это про золотоискателей, советский роман.
АСАП: А автор Масяни — не родственник его?
КАФЕЛЬ: Не, автор Масяни — родственник Саши Васильева из «Сплина».
АСАП: Вот это твист.
КАФЕЛЬ: Короче, я стал читать не «Территорию», самый его знаменитый роман, а другой роман, второй, «Правила бегства». Написал его он, не дописал — не помню уже, но помер в сорок лет. Был он экстремальный турист. Начинаю читать этот второй роман: там тоже про оленеводов, про лесорубов в тайге. И тут же на пятой или шестой странице романа чуваки начинают рассказывать эту байку о том, что в Якутии зимой одеколон по лому сливаешь; все вредное, вся сивуха остается на ломе и замерзает, а чистый спирт не замерзает и стекает в стакан, и это можно пить. И я думаю, господи, да хватит уже. Потому что это у Аксенова было, у Битова было, еще у кого-то было. Вот эта одна байка, она кочует по всей советской литературе из романа в роман. Потом они достали просто две бутылки спирта и начали этот спирт пить. Короче, высокая литература.
ЛОФТ: Это жизненный опыт, понимаешь? И есть какие-то штуки, которые, ну, хочешь-не хочешь, дублируются. Есть вещи, через которые многие проходят. Поэтому жизненный опыт — он важен для писателя.
КАФЕЛЬ: Теперь я знаю, как пить тормозную жидкость на севере Якутии, да.
ЛОФТ: В том числе и тормозную жидкость!
КАФЕЛЬ: Это как в фильме Пола Томаса Андерсона «Мастер» с Хоакином Фениксом: они же когда на авианосце плавали, есть эпизод, где он из ракеты откуда-то шланг отрывает и оттуда сливает жидкость из ракеты себе… Но они по лому ничего не сплавляли, они ее чистоганом пили.
АСАП: Ну тупые!
КАФЕЛЬ: Не знаю, что это было, тормозная жидкость у ракеты там. Какой там год, я не помню?..
ЛОФТ: У ракеты ракетное топливо наверное было, и они его… Ну, опять же…
КАФЕЛЬ: И потом был — все, сейчас я заткнусь! — самый незабываемый эпизод в фильме «Мастер», гениальный, когда он устраивается работать фотографом в универмаг в Нью-Йорке, к нему приходит какая-то модель, и он ей смешивает коктейль из фотохимии: из проявителя, из чего-то еще, и потом так щипцами лимончик туда БЫМС! — дает ей, и потом так спрашивает: «Вкусно?» Все!
ЛОФТ: Во-первых, почему все?! Продолжай, это интересно.
АСАП: Сеньоре модераторе, давайте как-нибудь структурируйте происходящее, пожалуйста.
ЛОФТ: Я как раз к тому и вел, что все вот это происходящее в книгах, о чем говорил Кафель — оно в том числе опирается на жизненный опыт. И вот вопрос: жизненный опыт, он необходим писателю? Нужно на него опираться, или все-таки это чистая фантазия из головы и порождение грез, снов и чего-то еще? Или все-таки с опорой на какие-то реальные факты из биографии; жизненный опыт, если говорить короче.
КАФЕЛЬ: Писателю важен литературный опыт, ему важна начитанность. Чем больше он прочитал, тем у него башка работает лучше, а жизненный опыт может в разные степи завести.
ЛОФТ: Может завести, но… Не знаю, кого тебе привести в пример. Буковски, например.
КАФЕЛЬ: Ну что, у него был большой жизненный опыт? Да вроде нет, он, наоборот, читал много.
АСАП: Ну поработай на почтамте американском двадцать лет начиная с пятидесятых годов.
ЛОФТ: И напиши потом прекрасную книгу об этом, да.
АСАП: Я «Почтамт» обожаю, кстати, это одна из моих любимейших книг, там такой слепок жизни, просто на каком-то таком примитивном мышечном совершенно уровне, и это восхитительно, и это смешно, и это очень…
ЛОФТ: …и это очень важный вопрос, потому что Кафель считает, что нужна начитанность, все-таки литературный опыт.
АСАП: Я, естественно, с Кафелем не соглашусь, потому что литературный опыт важен, но если нет какого-то жизненного опыта собственного, то литературный опыт легко можно понять неправильно, или он останется просто какой-то эстетической проекцией собственной фантазии, какими-то такими кружавчиками.
ЛОФТ: А это плохо?
АСАП: Это не плохо, просто это, мне кажется, не так сильно пронизывает читателя, не так сильно до него доходит, чем если какой-то свой реальный жизненный опыт трансформировать, трансмутировать и вкручивать в текст. Причем речь не о том, что… Ты там работал комбайнером или стрелял бандитом на улицах, или занимался какими-то берроузовскими нелегальными делами. Смысл в том, чтобы иметь определенные эмоции от жизни, определенный опыт переживаний, наблюдений, а вкручивать это можно в совершенно другой контекст и таким образом его оживлять. И, разумеется, да, писатель должен быть начитанным, потому что быть начитанным вообще лучше, чем быть неначитанным, потому что книги — это офигенно!
ЛОФТ: Цитаты великих людей. Дай я запишу.
АСАП: Просто люди, у которых только эстетический и литературный опыт был в жизни — это часто по ним чувствуется, чувствуется в их суждениях, в том числе о других книгах, чувствуется в том, что они сами пишут. Даже если свой жизненный опыт какой-то кринжовый, неудачный, но свой — это лучше, чем если его нет вообще. Поэтому меня очень печалит, когда я вижу молодых людей, которые вместо того, чтобы в семнадцать-восемнадцать лет сниматься из дома, уезжать за тысячи километров и работать вахтовиком, сидят, учатся, работают и пишут книги в итоге, и получается… автофикшн, и получается в итоге так называемая русская литература. Простите.
КАФЕЛЬ: В том числе у них это и от неначитанности происходит, потому что они прочитали восемь книжек и вот ту синюю, и все, они думают, что, ну, все жанры литературы мной охвачены, типа, и я смогу…
АСАП: Я согласен с тобой, безусловно в этом, Кафель, но я, скорее, к тому, что ограниченный человек может пятьдесят книг прочитать, и он их все прочитает не тем местом, которым книги надо читать. Они у него не так лягут в голове, как они лягут у человека, который что-то в жизни прохавал. Ну, как мне кажется.
КАФЕЛЬ: Если он читает жопой, они не так лягут в жопе у него.
ЛОФТ: Есть такая идея, что люди любят узнавание, да? Наверное, читатели тоже любят узнавание. Когда ты видишь в написанном какое-то реальное переживание, через которое ты сам, в том числе, мог пройти, может быть, оно на тебя по-другому повлияет? Ты вот это тоже имеешь в виду, Асап?
АСАП: В том числе, но мне кажется, люди в большей степени любят зеркала, чем узнавания. Потому что людям не хватает…
ЛОФТ: Узнавание себя — это еще лучше, конечно.
АСАП: Это гораздо лучше, потому что когда мы читаем «Радугу тяготения», насколько на самом деле мы узнаем Томаса Пинчона, когда мы читаем «Улисса», насколько мы узнаем Джойса? А насколько мы просто в зеркале этих чудесных текстов узнаем какие-то аспекты себя, которые раньше для нас были недоступны. Мне кажется, это более важно.
КАФЕЛЬ: Про «зеркала» я хотел сказать, что сегодня на Фантлабе, на форуме, очередной срач про Сорокина небольшой разгорелся — и люди не любят зеркала. Люди, когда читают Сорокина, они смотрятся в зеркало и не понимают, что они смотрятся в зеркало. И так в большинстве случаев происходит. Люди очень не любят зеркала.
АСАП: Не, ну ты экстремальный, конечно, пример зеркала привел.
ЛОФТ: Сорокин в этом плане хорош. Кстати, как раз я хотел привести Сорокина как пример того, насколько он отличается от того, что он пишет. То есть то, что он пишет, это практически противоположно тому, как он живет. Это не его опыт.
АСАП: Ты же с ним встречался, кстати, лично. Может, расскажешь, какой он, по впечатлениям?
ЛОФТ: Барин.
АСАП: У него, по-моему, борзые даже есть, да, в усадьбе?
КАФЕЛЬ: Там не борзые, левретки.
ЛОФТ: На усадьбе у него, к сожалению, не был, но по тому небольшому общению — это ну, абсолютно барин, который очень воспитанно, культурно, очень начитанно, в том числе, разговаривает. И это не то, что ты читаешь в его книгах абсолютно. И, может быть, поэтому ему это так хорошо и удается. Он играет на контрасте, потому что он отстраняется от этого, и у него получается лучше. Но, может быть, это за счет того, что он сам пережил. Не знаю, не знаю. Но это интересная тема насчет жизненного опыта и его отражения в книгах и отражения, которое потом находят там люди.
АСАП: Кстати, такие разные писатели как Берроуз и Борхес столкнулись с одинаковой проблемой, по-моему, даже в одно и то же время, в шестидесятых-семидесятых, когда они стали известными, их стали звать в университеты читать лекции, и Берроуз жаловался, что студенты не ожидали какого-то деда в костюме и галстуке, что они ждали, видимо, я цитирую, что «я буду голым с пристегнутым искусственным членом там прыгать». И Борхес тоже жаловался, что он приходит в университет, там хиппи (он их не видит, но, наверное, запах чувствует) и они тоже смотрят, и типа: этот слепой дед в костюме и галстуке написал «Вавилонскую библиотеку» и все наши остальные любимые рассказы?.. То есть колоссальный такой зазор между автором и творчеством порой бывает. Но я вот думаю, в том числе — на примере Сорокина и на примере этих двух, что… Возможно, консервативно-респектабельный образ жизни, образ бытования, он помогает заземляться и не ебнуться, когда ты работаешь над такими довольно радикальными вещами, над которыми эти все трое работали.
ЛОФТ: Образ жизни заземленной и консервативной — это мы про Берроуза, да, сейчас говорим?
КАФЕЛЬ: А Кастанеду лекции читать не звали?
АСАП: Не, он же скрывался до девяностых годов, пока у него деньги не кончились. Потом звали, но каким-то образом в девяностых никто этого не заснял, что тоже довольно подозрительно. Да, Лофт, Берроуз был вообще-то довольно консервативным южным джентльменом по жизни, ну, после уже своего молодого периода, который, кстати, закончился довольно рано, чуть ли не в начале шестидесятых.
ЛОФТ: Но его-то мы не исключаем, он у него был.
АСАП: Был. И вот такого жизненного опыта, конечно, врагу не пожелаешь. Убил жену: опыт!
ЛОФТ: Хорошо! Берроуз, Кастанеда, Борхес — это все хорошо. Русская литература помимо Сорокина существует?
КАФЕЛЬ: Да! Я сейчас как раз заметки делал, что русская литература, она как бы не в массе своей проявляется, а в отдельных именах. И чем дальше, тем больше имен я могу назвать. Вот в этом году я могу с удивлением назвать Веркина, потому что человек возник из ниоткуда. Он двадцать лет писал страшилки для детей и юношескую литературу. И совершенно был незаметен на других фронтах. И потом он внезапно бахнул «Остров Сахалин», который, если не знаешь, что это Веркин писал — ты думаешь, что это какая-то четвертая часть «Доктора Гарина». Потом бахнул «снарк снарк», просто великий роман, который еще двадцать лет придется осмыслять читателям. И «Сороку на виселице», на которую все лапками махали: Стругацкие, Стругацкие, а там ни фига не Стругацкие. Там вот реально новый слепок какой-то новой приходящей литературы… Вот мы говорили, что настоящая литература не должна признавать жанров, не должна укрываться под какими-то жанровыми рамками. И в «Сороке…», мне кажется, вот это именно и происходит. Веркин, мне кажется, один из таких прорывов, который за собой поведет новые имена.
ЛОФТ: Я читал Веркина «Остров Сахалин», он мне не понравился. Я его читал очень давно, причем я его читал на волне любви к постапокалипсису, когда читал много подобного, и мне сказали, что вот есть такая книжка, мне не понравилось. И я осторожно пропустил «снарк снарк», опять же, из-за плохого впечатления, оставленного «Островом Сахалином». Но «Сороку на виселице» я прочитал, мне безумно понравилось. Начало там, кстати, довольно стругацкое, я прям чувствовал это, а вот потом — да, потом все меняется, конечно. Веркин интересный. Плюс он один из тех, кто создает вселенные, что мне нравится, что делает Сорокин, что делает Пинчон, Стивен Кинг (мы к нему сегодня еще вернемся) когда разные, казалось бы, произведения, но, читая их, ты понимаешь, что они все происходят в одной вселенной. Мы и попробуем сегодня и про Сорокина в этом ключе поговорить. Асап, ты не читал Веркина, не жаждешь?
АСАП: Нет.
КАФЕЛЬ: А он еще не сказал же, что русской литературы не существует.
АСАП: А можно, да?
ЛОФТ: Давай, жги.
АСАП: Да, я считаю, что русской литературы не существует, что это фантом, это довольно опасный фантом, в первую очередь, маркетинговый, во вторую очередь — идеологический. Можно говорить, что русская литература была в девятнадцатом веке. Можно говорить, что она была в двадцатом веке в СССР, потому что реально была какая-то поколенческая преемственность. Большие имена, которые наследовали большим именам, которые продвигали определенные ценности, определенные дискурсы, определенное что-то. Сейчас существуют писатели. Сейчас существуют только отдельные писатели в немалом количестве. Разные люди что-то пишут, вот Веркин что-то пишет, Сорокин, Кафель пишет, я пишу, Рома Декабрев пишет, Денис Безносов, бедолага, тоже пишет что-то. Но литературы в этом нет, нет никакого единого фронта, нет никакого единого комьюнити, нет никакой единой идеи. Есть множество авторов, которые что-то пишут. И когда они пытаются писать что-то вот во имя русской литературы фантомной, то это получается совершенно чудовищно. Когда ставят перед собой такую интеллигентскую задачу по тому, что нужно нам вот это вот все осмыслить. И как бы осознать свою ответственность, и вину свою осознать. И вот народ, и вот интеллигенция, и вот Россия, и вот как бы культура. И это все совершенно чудовищно получается, потому что происходит апелляция к несуществующему фантому. Вот я полушутя говорил много раз, что, наверное, величайший русский писатель, который живет сегодня, это Ева Морозова из ШКЯ. Потому что она занимается тем, чем должен заниматься писатель русский: подмечать темы, интонации, снимать очень точно речь, в том числе разных слоев населения очень маргинальных, находить в этом какой-то космический абсурд и преобразовывать его вот в такой шлакоблок продукта, которым по голове можно ударить, и мозги у тебя эстетически вытекут. Посмотрите недавний ее ролик, «Любая классическая книга русской литературы».
ЛОФТ: А другие литературы существуют? Английская, немецкая, французская?
АСАП: Немецкая точно существует.
ЛОФТ: А чем отличается современная немецкая литература? Я, например, какое-то время интересовался вопросом и пытался собрать современных немецких авторов, чтобы это было как единое что-то. И там тоже разрозненные имена. В принципе, то, о чем говорил Кафель недавно совсем.
АСАП: В целом, да, я думаю, ты, скорее, прав. Я просто языка немецкого не знаю, к сожалению, несмотря на мой интерес к немецкой литературе, поэтому у меня не такое полное впечатление. В основном от Татьяны Александровны Баскаковой я что-то знаю. Есть Альбан Николай Хербст, есть товарищ Йиргль, есть еще какие-то имена, но я подозреваю, что да, современные немцы, скорее всего, их не знают, и что это реально, скорее, одиночки, чем представители какой-то конкретной современной немецкой литературы, но при этом у них есть то, на что они опираются — вот эта модернистская линия: Арно Шмидт, Ханс Хенни Янн, уходящая к Деблину, от Деблина назад к экспрессионистам и далее к романтикам. То есть это очень корявая, конечно, зигзагообразная странная линия, но это линия преемственности все-таки. А в России сейчас, по-моему, такого нет. Вот я прочел сейчас замечательный новый роман Кафеля, и там есть очень много, например, про Аксенова. Но я не могу сказать, что Кафель — последователь Аксенова или что Кафель — последователь Стругацких, хотя эти элементы в нем есть.
ЛОФТ: Это же тоже какая-то преемственность, да?
АСАП: Ну, это то, что находится, по-моему, в писательской ДНК Кафеля. Вот Кафель может мне сейчас сказать, что я не прав во всем, но это не последовательность, это что-то другое. Вот что — я бы хотел понять? Наверное, лучше самого Кафеля спросить об этом, а то чего я фантазирую про него.
ЛОФТ: Вообще, мне очень интересна эта тема, потому что я считал и считаю, что национальных литератур не существует. Потому что если книгу можно загнать в национальные рамки, то это не великая литература. Потому что «Улисс» это не ирландская книга, «Улисс» это общемировая книга. «Замок» Кафки это не… Кто такой Кафка? Это какая литература? Немецкая? Потому что он писал по-немецки? Чешская? Какая?
АСАП: Ты еще спроси, какая литература Бруно Шульц.
ЛОФТ: Бруно Шульц, Борхес… И вот… куда ни ткни… Пинчон — что это, американская литература?
АСАП: Хорошо, но если у нас получается, что вся великая литература — а ты перечислил несколько великих писателей — она наднациональна, то зачем нам нужна национальная литература?
ЛОФТ: Мне лично не нужна, но вот как раз вы сейчас об этом начали говорить, и сама тема интересна. Вот для чего, в принципе, есть этот поиск, это создание какой-то преемственности. Нужно это писателю? Нужно это культуре, нужно это обществу?
КАФЕЛЬ: Я сижу раздумываю над ДНК. ДНК-то есть, но вот чисто в моем случае я, наоборот, стараюсь его скрыть. Я когда рассказы писал, и когда видел, что рассказ получается слишком похожий на Сорокина, я себе говорю: не надо так, ты эпигоном становишься, переделывай. Когда я романы пишу, я снова на себя давлю, чтобы не было похоже на Стругацких, на того, на сего. Я специально Аксенова-то и ввел, чтобы, наоборот, разграничить, что есть Перумов, есть Аксенов, еще кто-то, а у меня вот: у меня там Строгов, у меня свое уже немножко.
АСАП: Ой, слушай, а можно я тебе про Строгова задам вопрос? Во-первых, глава про Строгова, я думаю, лучшая все-таки в романе, она абсолютно великая, и чувствуется, что тебе прям очень было интересно и важно это писать. И я, соответственно, предполагаю, что эта тема для тебя важна. Строгов в твоем романе, название которого мы не можем еще говорить, да?
КАФЕЛЬ: Пока рано.
АСАП: Хорошо. В твоем загадочном новом романе писатель Строгов — это вот прям такой писатель, архетипический писатель, советский, который властитель дум, властитель душ, каждая книга которого — не только этап его собственного творческого пути, но и одновременно этап в духовном развитии его читателей, то есть в каждой следующей книге он не только проходит сам какое-то путешествие, но и его читатели тоже идут вслед за ним и растут над собой, и поэтому его книги становятся настолько культовыми, что за ними определенные персонажи потом в будущем охотятся. Как ты считаешь, вот такой писатель, как описанный тобой Строгов, он в действительности существовал? И возможен ли он сейчас в постсовке? И нужно ли это кому-нибудь?
КАФЕЛЬ: Ну, да, ты примерно правильно все рассказал, что Строгов, он как бы сконструирован. Это как бы идеальный советский писатель для меня, которого я хотел бы читать, за развитием которого было бы максимально интересно следить, будь он реальным. Но Строгов, он собран из Аксенова шестидесятых-семидесятых, из Трифонова, из Нагибина немножко. Просто я уже десять лет их читаю понемножечку, биографий много Аксенова читал. И Строгов — это такой вот мужик, которому дали писать, на которого цензура в семидесятых-восьмидесятых не давила. Потому что, что мы видим? Что Трифонов умер. Нагибин был довольно приближенным к власти автором, ему все с рук сходило, и Нагибин особо не высовывался, знал, что нужно писать то, что хочет партия. Нагибин хороший писатель. А Аксенов в 1980 году был вынужден покинуть СССР и уехать в Америку и там стать преподавателем. Он не хотел уезжать, его вынудили. Если бы так получилось, что Аксенов остался бы в СССР, он бы и писать начал немножечко другие вещи, что естественно. И Строгов это вот такой вот «оставшийся Аксенов», на которого не давили, но чтобы на него не давили, он как бы начал исчезать. Ну, ты читал, ты знаешь, как это происходило. То есть Строгов это такой идеальный советский писатель в идеальном сферическом СССР, которого не существовало. Но было бы интересно почитать его книги.
АСАП: Слушай, это прямо интересно, то есть такая альтернативная история, в которой все получилось бы не так плохо, как в итоге получилось, и в которой был бы возможен такой вот писательский некоторый сверхчеловек советский.
КАФЕЛЬ: Ну, типа того. Аксенов разрабатывал тему советского сверхчеловека в двухтысячных. У него несколько романов про это есть.
АСАП: Но это уже было постфактум, а вот если бы он остался там внутри, если бы само это внутри было иначе, то все могло бы сложиться более интересно, у нас был бы другой писатель. Просто интересно, насколько это важно для тебя, насколько ты сам это на себя примеряешь.
КАФЕЛЬ: Нет, я на себя это не примеряю. Строгов это отдельный человек.
АСАП: Кстати, я не помню, на кого этот ярлык пытались лепить, на Масодова, что ли?
ЛОФТ: Какой ярлык? Последний советский писатель?
КАФЕЛЬ: Проханов — последний советский писатель.
ЛОФТ: …мы не будем говорить про Проханова, но вот про советских писателей мы, наверное, поговорим еще немножко, потому что это тоже какой-то отдельный вид писателя — советский… Я не имею в виду литературу как национальную литературу, а именно советского писателя как явление.
АСАП: Вот мне интересно, что у Кафеля подчеркивается именно этот момент в Строгове, что он — властитель умов молодого поколения, нескольких молодых поколений, который может что-то изменять, который буквально может менять реальность своими книгами за счет того, что их прочитают люди. Поэтому мне интересно, кто такие вообще писатели? Зачем все это нужно? И возможны ли сейчас писатели, которые как-то меняют реальность? Или это все просто, как любят говорить в одном чате, буквы на бумаге, которые яйца выеденного не стоят, как, собственно, и все разговоры об этом? Как вы считаете, коллеги?
КАФЕЛЬ: Ну вот в Советском Союзе в условиях постоянной цензуры и репрессий появились Аксенов, Стругацкие… продолжайте дальше, кто там еще? Люди, которые буквально изменили реальность.
ЛОФТ: Сорокин появился в Советском Союзе.
АСАП: Технически — да.
КАФЕЛЬ: Как их ни давили, как их ни притесняли, Стругацкие все равно проталкивали произведения куда только можно. Аксенов в семидесятых написал лучший советский роман «ОЖОГ». Аксенов прививал людям свободу мышления и литературную свободу. Стругацкие сформировали моральные принципы на несколько поколений вперед. Все это зародилось в Советском Союзе. А начиная с девяностых годов кто у нас? Масодов, Мамлеев (ну, Мамлеев творил-то во Франции, потом он вернулся после перестройки, и основные романы после «Шатунов» он написал уже во время и после перестройки, насколько я понимаю).
АСАП: Да и, честно говоря, то, что он написал уже в «Свободной России», по качеству сильно уступает, на мой взгляд.
КАФЕЛЬ: Поэтому, Асап, художник должен быть голодным.
АСАП: Ну вот да, тут опасная тема на границе с п. 2, как говорится. Насколько для писателя плодотворна цензура, давление и ужас ревущего снаружи бытия? Помогает это ему или мешает?
ЛОФТ: Я не знаю, насколько Асап знаком, но если читать переписку тех же Стругацких, насколько они страдали от того, что им приходится менять свои тексты, и насколько живее и насколько свободнее были бы их тексты, не будь они вынуждены подстраивать их под то, чтобы они были опубликованы.
АСАП: Я, кстати, не уверен, потому что я не знаю, с чем сравнить. Вот какой там уже неподцензурный роман, который двадцать лет пролежал на полке? «Град обреченный»?
КАФЕЛЬ: Да там много кто двадцать лет лежал у них на полке.
АСАП: Я «Гадких лебедей» просто не читал, по-моему. Я читал «Град обреченный», ну вот давайте посмотрим на него и… Ну, большая разница с тем, что было написано до этого.
КАФЕЛЬ: Со Стругацкими же ситуация еще такая, что есть старые тексты, которые в советское время выходили, там, журнальные версии — зацензуренные, а есть так называемые канонические варианты, которые выходили в девяностых, которые редакторская коллегия уже достраивала по их черновикам, и Борис говорили, что да, нужно вот так. То есть существует несколько вариантов каждого романа, и именно поэтому у них тома академического собрания сочинений всегда такие огромные.
АСАП: Да, Кафель, я как раз в связи с этим хотел тебя спросить, зная некоторое твое помешательство на этом. Вот это вот вставное эссе в новом романе про Перумова, про раннюю версию трилогии «Кольцо тьмы» несокращенную. Ты там в конце пишешь, что, может быть, вот все эти вырезанные детали, длинноты, ненужности, что, может быть, в них и был как бы самый сок. Что зря их вырезали. И вот мне интересно, в контексте твоего романа самого, почему ты вставил это эссе? Связано ли это с тем, что как раз твоему сердцу милы какие-то детали, длинноты и подробности, которые, может быть, кому-то покажутся избыточными при описании города, персонажей, каких-то бэкграундных линий, но они должны быть?
КАФЕЛЬ: А вот это как раз там есть, потому что во втором романе многое недосказано, как ты можешь догадаться, наверное. То есть, что происходило с Верой (мы с тобой обсуждали вчера) — никто не знает, что происходило с Верой.
АСАП: Мы договорились, что это будет спин-офф.
КАФЕЛЬ: Да, пустоты, зияющие в повествовании, которое я оставил специально, не потому что я не смог что-то придумать или не захотел.
АСАП: Логично, там в земле зияют пустоты, через которые пылает огонь.
ЛОФТ: Это, кстати, как у Веркина насчет происшествия, которое нигде никак не указано, но, как он сам сказал, это сделано специально для того, чтобы потом как-то это раскрыть.
КАФЕЛЬ: Так это один из моих самых любимых моментов у Стругацких. В финале «Волны гасят ветер». Когда они слушают эту пленку, на которой…
АСАП: Я сейчас отойду на минуту, потому что я еще собираюсь эту книгу прочесть.
КАФЕЛЬ: …вот, когда Горбовский обсуждает всю эту ситуацию сложившуюся в финале, и чуваки слушают это на записи, на пленке, и в этой пленке есть пустые фрагменты, стертые, и никто никогда не узнает, о чем Горбовский с Мировым советом тогда говорили. И вот это вообще просто шикарный прием: никто никогда не узнает об этом. Вот это все оттуда, у меня это от Стругацких идет, то, что нужно умалчивать о чем-то. Плюс Асап еще спрашивал, почему я Перумова вставил: потому что у него Олмер очень прикольный, интересный новый тип героя, который просто не от мира сего. Он не вписывается вообще ни в какую схему Средиземья, он как будто бы прогрессор типа чувака с нашей планеты, там, из «Трудно быть богом». У него есть такие черточки небольшие, даже не намеки. И именно такой тип героя, как Олмер, у меня во втором романе тоже есть.
ЛОФТ: Такой же тип, в смысле, тоже прогрессор?
КАФЕЛЬ: Не прогрессор, а непонятно откуда взявшийся, не вписывающийся в схему романа, и никто не знает, что с ним делать: вот зачем ты здесь? А у него есть какие-то свои собственные побуждения, мотивы.
ЛОФТ: Это тоже своего рода белое пятно, да.
КАФЕЛЬ: Я недавно пытался перечитать «Трудно быть богом», но не смог. Слишком подростковый роман, слишком «Три мушкетера» оттуда прут.
ЛОФТ: Вначале они прут, потом уже не так сильно. Ну да, в общем и целом я согласен, что это подростковая вещь, конечно. Но все равно мне очень нравится, я не один раз его перечитывал.
КАФЕЛЬ: Мне хватило Германа.
ЛОФТ: Я не смотрел.
КАФЕЛЬ: Да ты что! Герман идеально показал, что это не подростковый роман. Он, как мне кажется, довольно дословно экранизировал его, и все там хорошо. Я не знаю, чего люди вопят. Люди как раз вопят, потому что им зеркало опять перед носом поставили.
ЛОФТ: Люди любят вопить, да.
КАФЕЛЬ: И люди такие: ой, что это, как противно, о господи, нам показали хер осла, господи! Ну, там буквально хер осла показывают в одном кадре.
ЛОФТ: Люди хотят зеркало. Но им не всегда нравится, что они там видят. И вот тут проблема.
ПЕРЕКУР
ЛОФТ: У меня была мысль насчет Строгова и вообще насчет образа писателя у писателей. Довольно часто попадаются в произведениях писатели, там, я не знаю, у Стругацких тех же есть, например, писатель Сорокин. Ну, много где есть. Это что? Вот такое введение писателей — это какое-то желание сказать что-то, описать что-то свое? Вот что это для тебя? Помимо того, что это образ идеального советского писателя, о чем мы уже говорили.
КАФЕЛЬ: Мне кажется, мы пришли к тому, что именно это есть преемственность, что, да, мне хотелось бы описать жизнь писателя, в первую очередь, потому, что у Стругацких Строгов, их Строгов, он вообще не раскрыт как личность. Ну, им это было неинтересно, они просто ввели его ради цитаты какой-то. А у меня, естественно, другой Строгов, и фамилия Строгов, как мне подсказал Асап, она вообще от Жюля Верна исходит в русской литературе.
АСАП: Да, у него чудовищный китчевый роман про Россию «Михаил Строгов». И это какая-то очень сюрреалистическая Россия, там гигантская Татария, все горит! И Мишель Строгов там где-то скачет, да… Блин, я не знаю, мне кажется, когда писатель появляется в произведении писателя, это какая-то большая лень во многом, если у этого нет особенной сверхзадачи, вот как у Кафеля. Это правда какая-то инерция ума и слишком буквальное следование совету Стивена Кинга «пиши о том, что ты знаешь». Если бы все писали только о том, что знают, литература, конечно, интересно бы выглядела.
ЛОФТ: Но у тебя есть писатель в романах. Пессоа, например.
АСАП: Пессоа — поэт. Я, по-моему, ни разу как поэта его, собственно, не описываю, только как алкоголика-ясновидца.
ЛОФТ: Интересно будет подумать об этом — почему ты описываешь поэта не как поэта, а как алкоголика и ясновидца.
АСАП: Ну, потому что это как-то… Как можно описать творческий процесс? Человек сидит и что-то там пишет. Ты же не опишешь, что у него в голове происходит. Ну, можно, наверное, как-то, но в основном это какая-то цепь разрядов абсолютно спонтанных ассоциативных цепочек, каких-то взрывов вдохновения. Чаще всего не очень понятно, откуда оно приходит. Но сразу и все приходит. Я не знаю, кстати, может быть, у других писателей голова работает не так, как у меня. У меня она работает довольно странно: сначала какая-то вспышка такая, сверхновая, микро-, в которой я вижу все произведение целиком. И потом уже она начинает постепенно-постепенно разворачиваться, появляются сюжеты, линии, имена. Но вначале — это какой-то эмбрион, наверное, напоминает. Эмбрион и одновременно звезду, и вот вспышка есть, и как бы — и все, и роман рождается, или рассказ, или роман целиком от начала до конца.
КАФЕЛЬ: И ты видишь конкретный финал его?
АСАП: Да, я точно вижу начало и конец, и какие-то события в середине, и, может быть, условно главных героев, но потом уже, когда продумываю, оно начинает само разворачиваться. И интересно еще, что у меня никогда нет ощущения, что я это сознательно придумываю, я как будто просто обращаю внимание на какие-то вот вещи в голове, и они сами по себе проясняются. То есть я не знаю, что такое сидеть и придумывать. Это тоже очень странно, я не знаю, насколько это типично, потому что мне не с чем сравнить. Как у тебя это происходит, расскажи?
КАФЕЛЬ: Вот в твоем лице я наконец-то нашел, господа, идеальный пример человека, который видит свой замысел от начала до конца единовременно. Я пишу одну главу, и я не знаю, что будет в следующей. Я очень-очень примерно представляю себе скелет произведения, очень примерный план, и мясо на него наращивается постепенно. Вот я, там, главу пишу месяц, допустим. Я не знаю, что будет в конце, я не знаю, что будет с этими героями. Потом какие-то логические цепочки выстраиваются, но не сразу. И финал далеко не сразу пришел. В основном, чтобы ко мне пришел сюжетный ход или финал, мне нужна какая-нибудь встряска, типа, выйти в шесть утра на мороз или, там…
АСАП: Уйти из дома.
КАФЕЛЬ: Да-да, пойти в бассейн наконец уже. Скотина, ты три недели в бассейн не ходил.
АСАП: Я думаю, мне надо сделать небольшой clarification, что, естественно, всегда остается пространство для импровизации, потому что чем именно будет наполняться промежуток между началом и концом, я абсолютно не знаю. И иногда как бы конец оказывается не совсем концом. То есть «Алхимия во время чумы» изначально заканчивалась на предпоследней главе, «Отражения» она, по-моему, называется. И когда я ее дописал, я понял, что это не финал, это не должен быть финал. И я ходил-ходил, а потом вот так же целиком вспышкой увидел вот эту маленькую финальную главу «Спираль» и очень радовался и был собой доволен, потому что это идеальный финал для этого романа. Тоже вот странно, конечно, но самое странное, конечно, это вот то, что я сейчас дописываю прямо вот в эти дни, прямо сегодня. То есть новый роман «А А А», потому что когда я начинал, я вообще не представлял, что это будет.
КАФЕЛЬ: Мы подходим к «А А А», и я могу немножечко рассказать о своих впечатлениях сумбурных о нем. За май месяц 2025 года и кое-где даже в апреле Гелианов заставил меня чувствовать себя дедом таким ворчливым, два раза. Первый раз когда я читал пьесу его для театра и второй раз когда я читал «А А А». И вот этот мой внутренний дед вырывался и ворчал: «Почему он пишет без знаков препинания? Что это такое? Почему у него этот поток сознания? Зачем он это делает? Почему он не хочет ясно излагать свои мысли?»
АСАП: Поганая молодежь!
КАФЕЛЬ: Да, да! То есть посыл работает, как я люблю постоянно обращать внимание, что программа работает! Аксенов: помер, сколько там лет уже? «ОЖОГ» написан в 1975 году, или другие его повести. Писатель давно помер, а программа работает, до сих пор пердаки рвутся. Сорокин сто лет назад написал «Норму», «Очередь», «Голубое сало» — до сих пор у кого-то что-то там подгорает. Программа, заложенная в художественное произведение, работает! Эти программы — бессмертны. Даже компьютерные программы дают сбои со временем, а вот эти — они не дают. И у Гелианова получается такая вот программа, как… Ну, это было в «Generation П», и это было в «Лавине» Нила Стивенсона, которую Гелианов никогда не будет читать: вообще изначально-то это были глиняные таблички богини Иштар, на которых были записаны программы, которые перешивали людишкам сознание, у которых мозгов тогда было мало. И таблички им операционную систему буквально ставили в голову. И «А А А» представляет собой вот такую тоже немножечко операционную систему. Мой внутренний ворчливый дед, он сопротивляется этому, он пытается это откинуть. Ну и плюс — я читаю с экрана, и от меня ускользает смысл, потому что мне тяжело вообще с экрана читать обычную прозу, а тут еще и поток такой. И в бумаге, естественно, это намного лучше у меня получится, я больше пойму. Ну, а так, там все наши старые друзья любимые: Гильгамеш, Энкиду, Тиамат. Мне нравится, но, опять же, мне нужно это в бумаге прочитать, чтобы полностью оценить. И мне нравится, что оно меня злит, потому что есть вещи, которые злят, потому что они хуево просто написаны, а здесь меня злит его метод, его какая-то изменившаяся интонация по сравнению с предыдущими произведениями. Вот так вот.
ЛОФТ: Тебе кажется, что это эволюция или это просто что-то новое, если сравнивать с предыдущими произведениями?
КАФЕЛЬ: Мне кажется, что это финальная стадия его витка эволюции, вот этого периода, который «Кентавры"—"Причалы"—"О превращении форм» и вот этот роман. И после этого романа у него начнется новый виток, который будет уже другой.
АСАП: Самому, конечно, ужасно интересно, что это будет, потому что я абсолютно не представляю. У меня были замыслы двух романов до этого, которые я мог бы написать, но после «А А А» это немножечко померкло. С другой стороны, он точно так же вот пришел ко мне совершенно внезапно, когда я двадцать первого, по-моему, февраля просто шел по ереванскому шоссе и слушал песню The Golden Ticket группы PRIMUS… Может быть, что-нибудь еще придет таким образом.
ЛОФТ: Он тоже был вспышкой, да?
АСАП: Да, конечно, это была вспышка, в которой развернулся вот такой как бы мальстрем-водоворот. Я просто увидел структуру, как это можно сделать, я не совсем еще понимал, чем это закончится. Я сам, конечно, несколько удивлен, чем это сейчас заканчивается, и я абсолютно не представляю, как это воспримут даже те читатели, которым понравились «Кентавры» и «Причалы».
ЛОФТ: Мне интересно было, например, я когда начал читать «А А А», у меня были схожие мысли с Кафелем: зачем это? То есть понятно, что и как, но зачем?.. И это, да, немножко злило, потом, когда очень интересным образом стала вырисовываться в голове история, и я еще не все прочитал, потому что все еще не написано, естественно, но ближе к концу того выпуска, который у меня есть сейчас, оно сложилось во что-то, о чем я могу разговаривать. Это история, которую можно пересказать, и она уже совершенно целостно выглядит. И это очень интересное ощущение, как такой необычный текст может создавать вполне себе логические картинки в голове. Это очень интересное ощущение.
АСАП: Я еще успею испортить/перевернуть ваши ожидания третьей частью…
ЛОФТ: Я очень надеюсь на это!
АСАП: …которая одновременно немножко граундит происходящее в конкретном сюжете, а с другой стороны все запутывает окончательно. В общем, скоро уже, совсем скоро конец. Я надеюсь, что вам понравится он.
ЛОФТ: Очень хорошо. Мой вопрос по поводу фигуры писателя в произведении, мы все-таки не до конца его раскрыли, но, наверное, до конца его раскрыть не получится. Но у меня еще один вопрос. Кафель упомянул как раз сейчас, что он пытается менять что-то, когда видит в себе Сорокина или Стругацких или кого-то еще. Можно, конечно, сейчас поговорить про страх влияния, про попытку уйти. И ты сказал про Мамлеева, про Масодова. Когда я читаю вот мамлеевоподобных, так сказать, я вижу в этом просто адское эпигонство Платонова, меня это злит, потому что, ну, это несерьезно как-то.
КАФЕЛЬ: Они, наверное, объясняют это преемственностью как раз.
ЛОФТ: Может быть, да. Вот это тебя злит? От этого ты пытаешься уйти?
АСАП: Нам не нужна преемственность в плане эпигонов Платонова, нам нужны новые Платоновы.
КАФЕЛЬ: Ну, да, ты примерно правильно все рассказал, что Строгов, он как бы сконструирован. Это как бы идеальный советский писатель для меня, которого я хотел бы читать, за развитием которого было бы максимально интересно следить, будь он реальным. Но Строгов, он собран из Аксенова шестидесятых-семидесятых, из Трифонова, из Нагибина немножко. Просто я уже десять лет их читаю понемножечку, биографий много Аксенова читал. И Строгов — это такой вот мужик, которому дали писать, на которого цензура в семидесятых-восьмидесятых не давила. Потому что, что мы видим? Что Трифонов умер. Нагибин был довольно приближенным к власти автором, ему все с рук сходило, и Нагибин особо не высовывался, знал, что нужно писать то, что хочет партия. Нагибин хороший писатель. А Аксенов в 1980 году был вынужден покинуть СССР и уехать в Америку и там стать преподавателем. Он не хотел уезжать, его вынудили. Если бы так получилось, что Аксенов остался бы в СССР, он бы и писать начал немножечко другие вещи, что естественно. И Строгов это вот такой вот «оставшийся Аксенов», на которого не давили, но чтобы на него не давили, он как бы начал исчезать. Ну, ты читал, ты знаешь, как это происходило. То есть Строгов это такой идеальный советский писатель в идеальном сферическом СССР, которого не существовало. Но было бы интересно почитать его книги.
АСАП: Слушай, это прямо интересно, то есть такая альтернативная история, в которой все получилось бы не так плохо, как в итоге получилось, и в которой был бы возможен такой вот писательский некоторый сверхчеловек советский.
КАФЕЛЬ: Ну, типа того. Аксенов разрабатывал тему советского сверхчеловека в двухтысячных. У него несколько романов про это есть.
АСАП: Но это уже было постфактум, а вот если бы он остался там внутри, если бы само это внутри было иначе, то все могло бы сложиться более интересно, у нас был бы другой писатель. Просто интересно, насколько это важно для тебя, насколько ты сам это на себя примеряешь.
КАФЕЛЬ: Нет, я на себя это не примеряю. Строгов это отдельный человек.
АСАП: Кстати, я не помню, на кого этот ярлык пытались лепить, на Масодова, что ли?
ЛОФТ: Какой ярлык? Последний советский писатель?
КАФЕЛЬ: Проханов — последний советский писатель.
ЛОФТ: …мы не будем говорить про Проханова, но вот про советских писателей мы, наверное, поговорим еще немножко, потому что это тоже какой-то отдельный вид писателя — советский… Я не имею в виду литературу как национальную литературу, а именно советского писателя как явление.
АСАП: Вот мне интересно, что у Кафеля подчеркивается именно этот момент в Строгове, что он — властитель умов молодого поколения, нескольких молодых поколений, который может что-то изменять, который буквально может менять реальность своими книгами за счет того, что их прочитают люди. Поэтому мне интересно, кто такие вообще писатели? Зачем все это нужно? И возможны ли сейчас писатели, которые как-то меняют реальность? Или это все просто, как любят говорить в одном чате, буквы на бумаге, которые яйца выеденного не стоят, как, собственно, и все разговоры об этом? Как вы считаете, коллеги?
КАФЕЛЬ: Ну вот в Советском Союзе в условиях постоянной цензуры и репрессий появились Аксенов, Стругацкие… продолжайте дальше, кто там еще? Люди, которые буквально изменили реальность.
ЛОФТ: Сорокин появился в Советском Союзе.
АСАП: Технически — да.
КАФЕЛЬ: Как их ни давили, как их ни притесняли, Стругацкие все равно проталкивали произведения куда только можно. Аксенов в семидесятых написал лучший советский роман «ОЖОГ». Аксенов прививал людям свободу мышления и литературную свободу. Стругацкие сформировали моральные принципы на несколько поколений вперед. Все это зародилось в Советском Союзе. А начиная с девяностых годов кто у нас? Масодов, Мамлеев (ну, Мамлеев творил-то во Франции, потом он вернулся после перестройки, и основные романы после «Шатунов» он написал уже во время и после перестройки, насколько я понимаю).
АСАП: Да и, честно говоря, то, что он написал уже в «Свободной России», по качеству сильно уступает, на мой взгляд.
КАФЕЛЬ: Поэтому, Асап, художник должен быть голодным.
АСАП: Ну вот да, тут опасная тема на границе с п. 2, как говорится. Насколько для писателя плодотворна цензура, давление и ужас ревущего снаружи бытия? Помогает это ему или мешает?
ЛОФТ: Я не знаю, насколько Асап знаком, но если читать переписку тех же Стругацких, насколько они страдали от того, что им приходится менять свои тексты, и насколько живее и насколько свободнее были бы их тексты, не будь они вынуждены подстраивать их под то, чтобы они были опубликованы.
АСАП: Я, кстати, не уверен, потому что я не знаю, с чем сравнить. Вот какой там уже неподцензурный роман, который двадцать лет пролежал на полке? «Град обреченный»?
КАФЕЛЬ: Да там много кто двадцать лет лежал у них на полке.
АСАП: Я «Гадких лебедей» просто не читал, по-моему. Я читал «Град обреченный», ну вот давайте посмотрим на него и… Ну, большая разница с тем, что было написано до этого.
КАФЕЛЬ: Со Стругацкими же ситуация еще такая, что есть старые тексты, которые в советское время выходили, там, журнальные версии — зацензуренные, а есть так называемые канонические варианты, которые выходили в девяностых, которые редакторская коллегия уже достраивала по их черновикам, и Борис говорили, что да, нужно вот так. То есть существует несколько вариантов каждого романа, и именно поэтому у них тома академического собрания сочинений всегда такие огромные.
АСАП: Да, Кафель, я как раз в связи с этим хотел тебя спросить, зная некоторое твое помешательство на этом. Вот это вот вставное эссе в новом романе про Перумова, про раннюю версию трилогии «Кольцо тьмы» несокращенную. Ты там в конце пишешь, что, может быть, вот все эти вырезанные детали, длинноты, ненужности, что, может быть, в них и был как бы самый сок. Что зря их вырезали. И вот мне интересно, в контексте твоего романа самого, почему ты вставил это эссе? Связано ли это с тем, что как раз твоему сердцу милы какие-то детали, длинноты и подробности, которые, может быть, кому-то покажутся избыточными при описании города, персонажей, каких-то бэкграундных линий, но они должны быть?
КАФЕЛЬ: А вот это как раз там есть, потому что во втором романе многое недосказано, как ты можешь догадаться, наверное. То есть, что происходило с Верой (мы с тобой обсуждали вчера) — никто не знает, что происходило с Верой.
АСАП: Мы договорились, что это будет спин-офф.
КАФЕЛЬ: Да, пустоты, зияющие в повествовании, которое я оставил специально, не потому что я не смог что-то придумать или не захотел.
АСАП: Логично, там в земле зияют пустоты, через которые пылает огонь.
ЛОФТ: Это, кстати, как у Веркина насчет происшествия, которое нигде никак не указано, но, как он сам сказал, это сделано специально для того, чтобы потом как-то это раскрыть.
КАФЕЛЬ: Так это один из моих самых любимых моментов у Стругацких. В финале «Волны гасят ветер». Когда они слушают эту пленку, на которой…
АСАП: Я сейчас отойду на минуту, потому что я еще собираюсь эту книгу прочесть.
КАФЕЛЬ: …вот, когда Горбовский обсуждает всю эту ситуацию сложившуюся в финале, и чуваки слушают это на записи, на пленке, и в этой пленке есть пустые фрагменты, стертые, и никто никогда не узнает, о чем Горбовский с Мировым советом тогда говорили. И вот это вообще просто шикарный прием: никто никогда не узнает об этом. Вот это все оттуда, у меня это от Стругацких идет, то, что нужно умалчивать о чем-то. Плюс Асап еще спрашивал, почему я Перумова вставил: потому что у него Олмер очень прикольный, интересный новый тип героя, который просто не от мира сего. Он не вписывается вообще ни в какую схему Средиземья, он как будто бы прогрессор типа чувака с нашей планеты, там, из «Трудно быть богом». У него есть такие черточки небольшие, даже не намеки. И именно такой тип героя, как Олмер, у меня во втором романе тоже есть.
ЛОФТ: Такой же тип, в смысле, тоже прогрессор?
КАФЕЛЬ: Не прогрессор, а непонятно откуда взявшийся, не вписывающийся в схему романа, и никто не знает, что с ним делать: вот зачем ты здесь? А у него есть какие-то свои собственные побуждения, мотивы.
ЛОФТ: Это тоже своего рода белое пятно, да.
КАФЕЛЬ: Я недавно пытался перечитать «Трудно быть богом», но не смог. Слишком подростковый роман, слишком «Три мушкетера» оттуда прут.
ЛОФТ: Вначале они прут, потом уже не так сильно. Ну да, в общем и целом я согласен, что это подростковая вещь, конечно. Но все равно мне очень нравится, я не один раз его перечитывал.
КАФЕЛЬ: Мне хватило Германа.
ЛОФТ: Я не смотрел.
КАФЕЛЬ: Да ты что! Герман идеально показал, что это не подростковый роман. Он, как мне кажется, довольно дословно экранизировал его, и все там хорошо. Я не знаю, чего люди вопят. Люди как раз вопят, потому что им зеркало опять перед носом поставили.
ЛОФТ: Люди любят вопить, да.
КАФЕЛЬ: И люди такие: ой, что это, как противно, о господи, нам показали хер осла, господи! Ну, там буквально хер осла показывают в одном кадре.
ЛОФТ: Люди хотят зеркало. Но им не всегда нравится, что они там видят. И вот тут проблема.
ПЕРЕКУР
ЛОФТ: У меня была мысль насчет Строгова и вообще насчет образа писателя у писателей. Довольно часто попадаются в произведениях писатели, там, я не знаю, у Стругацких тех же есть, например, писатель Сорокин. Ну, много где есть. Это что? Вот такое введение писателей — это какое-то желание сказать что-то, описать что-то свое? Вот что это для тебя? Помимо того, что это образ идеального советского писателя, о чем мы уже говорили.
КАФЕЛЬ: Мне кажется, мы пришли к тому, что именно это есть преемственность, что, да, мне хотелось бы описать жизнь писателя, в первую очередь, потому, что у Стругацких Строгов, их Строгов, он вообще не раскрыт как личность. Ну, им это было неинтересно, они просто ввели его ради цитаты какой-то. А у меня, естественно, другой Строгов, и фамилия Строгов, как мне подсказал Асап, она вообще от Жюля Верна исходит в русской литературе.
АСАП: Да, у него чудовищный китчевый роман про Россию «Михаил Строгов». И это какая-то очень сюрреалистическая Россия, там гигантская Татария, все горит! И Мишель Строгов там где-то скачет, да… Блин, я не знаю, мне кажется, когда писатель появляется в произведении писателя, это какая-то большая лень во многом, если у этого нет особенной сверхзадачи, вот как у Кафеля. Это правда какая-то инерция ума и слишком буквальное следование совету Стивена Кинга «пиши о том, что ты знаешь». Если бы все писали только о том, что знают, литература, конечно, интересно бы выглядела.
ЛОФТ: Но у тебя есть писатель в романах. Пессоа, например.
АСАП: Пессоа — поэт. Я, по-моему, ни разу как поэта его, собственно, не описываю, только как алкоголика-ясновидца.
ЛОФТ: Интересно будет подумать об этом — почему ты описываешь поэта не как поэта, а как алкоголика и ясновидца.
АСАП: Ну, потому что это как-то… Как можно описать творческий процесс? Человек сидит и что-то там пишет. Ты же не опишешь, что у него в голове происходит. Ну, можно, наверное, как-то, но в основном это какая-то цепь разрядов абсолютно спонтанных ассоциативных цепочек, каких-то взрывов вдохновения. Чаще всего не очень понятно, откуда оно приходит. Но сразу и все приходит. Я не знаю, кстати, может быть, у других писателей голова работает не так, как у меня. У меня она работает довольно странно: сначала какая-то вспышка такая, сверхновая, микро-, в которой я вижу все произведение целиком. И потом уже она начинает постепенно-постепенно разворачиваться, появляются сюжеты, линии, имена. Но вначале — это какой-то эмбрион, наверное, напоминает. Эмбрион и одновременно звезду, и вот вспышка есть, и как бы — и все, и роман рождается, или рассказ, или роман целиком от начала до конца.
КАФЕЛЬ: И ты видишь конкретный финал его?
АСАП: Да, я точно вижу начало и конец, и какие-то события в середине, и, может быть, условно главных героев, но потом уже, когда продумываю, оно начинает само разворачиваться. И интересно еще, что у меня никогда нет ощущения, что я это сознательно придумываю, я как будто просто обращаю внимание на какие-то вот вещи в голове, и они сами по себе проясняются. То есть я не знаю, что такое сидеть и придумывать. Это тоже очень странно, я не знаю, насколько это типично, потому что мне не с чем сравнить. Как у тебя это происходит, расскажи?
КАФЕЛЬ: Вот в твоем лице я наконец-то нашел, господа, идеальный пример человека, который видит свой замысел от начала до конца единовременно. Я пишу одну главу, и я не знаю, что будет в следующей. Я очень-очень примерно представляю себе скелет произведения, очень примерный план, и мясо на него наращивается постепенно. Вот я, там, главу пишу месяц, допустим. Я не знаю, что будет в конце, я не знаю, что будет с этими героями. Потом какие-то логические цепочки выстраиваются, но не сразу. И финал далеко не сразу пришел. В основном, чтобы ко мне пришел сюжетный ход или финал, мне нужна какая-нибудь встряска, типа, выйти в шесть утра на мороз или, там…
АСАП: Уйти из дома.
КАФЕЛЬ: Да-да, пойти в бассейн наконец уже. Скотина, ты три недели в бассейн не ходил.
АСАП: Я думаю, мне надо сделать небольшой clarification, что, естественно, всегда остается пространство для импровизации, потому что чем именно будет наполняться промежуток между началом и концом, я абсолютно не знаю. И иногда как бы конец оказывается не совсем концом. То есть «Алхимия во время чумы» изначально заканчивалась на предпоследней главе, «Отражения» она, по-моему, называется. И когда я ее дописал, я понял, что это не финал, это не должен быть финал. И я ходил-ходил, а потом вот так же целиком вспышкой увидел вот эту маленькую финальную главу «Спираль» и очень радовался и был собой доволен, потому что это идеальный финал для этого романа. Тоже вот странно, конечно, но самое странное, конечно, это вот то, что я сейчас дописываю прямо вот в эти дни, прямо сегодня. То есть новый роман «А А А», потому что когда я начинал, я вообще не представлял, что это будет.
КАФЕЛЬ: Мы подходим к «А А А», и я могу немножечко рассказать о своих впечатлениях сумбурных о нем. За май месяц 2025 года и кое-где даже в апреле Гелианов заставил меня чувствовать себя дедом таким ворчливым, два раза. Первый раз когда я читал пьесу его для театра и второй раз когда я читал «А А А». И вот этот мой внутренний дед вырывался и ворчал: «Почему он пишет без знаков препинания? Что это такое? Почему у него этот поток сознания? Зачем он это делает? Почему он не хочет ясно излагать свои мысли?»
АСАП: Поганая молодежь!
КАФЕЛЬ: Да, да! То есть посыл работает, как я люблю постоянно обращать внимание, что программа работает! Аксенов: помер, сколько там лет уже? «ОЖОГ» написан в 1975 году, или другие его повести. Писатель давно помер, а программа работает, до сих пор пердаки рвутся. Сорокин сто лет назад написал «Норму», «Очередь», «Голубое сало» — до сих пор у кого-то что-то там подгорает. Программа, заложенная в художественное произведение, работает! Эти программы — бессмертны. Даже компьютерные программы дают сбои со временем, а вот эти — они не дают. И у Гелианова получается такая вот программа, как… Ну, это было в «Generation П», и это было в «Лавине» Нила Стивенсона, которую Гелианов никогда не будет читать: вообще изначально-то это были глиняные таблички богини Иштар, на которых были записаны программы, которые перешивали людишкам сознание, у которых мозгов тогда было мало. И таблички им операционную систему буквально ставили в голову. И «А А А» представляет собой вот такую тоже немножечко операционную систему. Мой внутренний ворчливый дед, он сопротивляется этому, он пытается это откинуть. Ну и плюс — я читаю с экрана, и от меня ускользает смысл, потому что мне тяжело вообще с экрана читать обычную прозу, а тут еще и поток такой. И в бумаге, естественно, это намного лучше у меня получится, я больше пойму. Ну, а так, там все наши старые друзья любимые: Гильгамеш, Энкиду, Тиамат. Мне нравится, но, опять же, мне нужно это в бумаге прочитать, чтобы полностью оценить. И мне нравится, что оно меня злит, потому что есть вещи, которые злят, потому что они хуево просто написаны, а здесь меня злит его метод, его какая-то изменившаяся интонация по сравнению с предыдущими произведениями. Вот так вот.
ЛОФТ: Тебе кажется, что это эволюция или это просто что-то новое, если сравнивать с предыдущими произведениями?
КАФЕЛЬ: Мне кажется, что это финальная стадия его витка эволюции, вот этого периода, который «Кентавры"—"Причалы"—"О превращении форм» и вот этот роман. И после этого романа у него начнется новый виток, который будет уже другой.
АСАП: Самому, конечно, ужасно интересно, что это будет, потому что я абсолютно не представляю. У меня были замыслы двух романов до этого, которые я мог бы написать, но после «А А А» это немножечко померкло. С другой стороны, он точно так же вот пришел ко мне совершенно внезапно, когда я двадцать первого, по-моему, февраля просто шел по ереванскому шоссе и слушал песню The Golden Ticket группы PRIMUS… Может быть, что-нибудь еще придет таким образом.
ЛОФТ: Он тоже был вспышкой, да?
АСАП: Да, конечно, это была вспышка, в которой развернулся вот такой как бы мальстрем-водоворот. Я просто увидел структуру, как это можно сделать, я не совсем еще понимал, чем это закончится. Я сам, конечно, несколько удивлен, чем это сейчас заканчивается, и я абсолютно не представляю, как это воспримут даже те читатели, которым понравились «Кентавры» и «Причалы».
ЛОФТ: Мне интересно было, например, я когда начал читать «А А А», у меня были схожие мысли с Кафелем: зачем это? То есть понятно, что и как, но зачем?.. И это, да, немножко злило, потом, когда очень интересным образом стала вырисовываться в голове история, и я еще не все прочитал, потому что все еще не написано, естественно, но ближе к концу того выпуска, который у меня есть сейчас, оно сложилось во что-то, о чем я могу разговаривать. Это история, которую можно пересказать, и она уже совершенно целостно выглядит. И это очень интересное ощущение, как такой необычный текст может создавать вполне себе логические картинки в голове. Это очень интересное ощущение.
АСАП: Я еще успею испортить/перевернуть ваши ожидания третьей частью…
ЛОФТ: Я очень надеюсь на это!
АСАП: …которая одновременно немножко граундит происходящее в конкретном сюжете, а с другой стороны все запутывает окончательно. В общем, скоро уже, совсем скоро конец. Я надеюсь, что вам понравится он.
ЛОФТ: Очень хорошо. Мой вопрос по поводу фигуры писателя в произведении, мы все-таки не до конца его раскрыли, но, наверное, до конца его раскрыть не получится. Но у меня еще один вопрос. Кафель упомянул как раз сейчас, что он пытается менять что-то, когда видит в себе Сорокина или Стругацких или кого-то еще. Можно, конечно, сейчас поговорить про страх влияния, про попытку уйти. И ты сказал про Мамлеева, про Масодова. Когда я читаю вот мамлеевоподобных, так сказать, я вижу в этом просто адское эпигонство Платонова, меня это злит, потому что, ну, это несерьезно как-то.
КАФЕЛЬ: Они, наверное, объясняют это преемственностью как раз.
ЛОФТ: Может быть, да. Вот это тебя злит? От этого ты пытаешься уйти?
АСАП: Нам не нужна преемственность в плане эпигонов Платонова, нам нужны новые Платоновы.
КАФЕЛЬ: Ну да, потому что вот Сорокин как мастер написания рассказа достиг в этом деле абсолюта. То есть дальше уже некуда. Ты на современном уровне, как бы ты ни пытался пересорокить Сорокина — не получится, потому что он зашел вообще в самые потаенные уголки и их сделал, изложил на бумаге. И когда я просто вижу попытку у себя тоже куда-то лезть в рассказах, я себя одергиваю: у тебя не получится лучше, у тебя получится эпигонство. То есть Сорокин написал одни из самых лучших рассказов в русской литературе, неважно какие. Мы сейчас можем долго говорить, какой лучший. И попытка сделать лучше, когда у тебя уже прошивка в голове полностью сорокинская — она ничем хорошим не обернется.
АСАП: Я не очень, кстати, понимаю, что такое «сорокинская прошивка» в голове. Я могу предположить: это когда у тебя есть колоссальный классический базис русской литературы, когда у тебя есть колоссальный советский базис и когда у тебя есть интенция и колоссальные стилистические способности, чтобы все это деконструировать, чтобы это стало веселым познавательным страшным ритуалом.
КАФЕЛЬ: Да, я очень скромный. Ну, советских писателей я читал за последние лет десять довольно много. Я специально выискивал всяких неизвестных, никому не нужных чуваков, которых в электронке иногда даже нету. Мне просто это было интересно. И там есть шикарные неограненные алмазы. Я сейчас всех не назову, я их так не помню наперечет. Но вот после Аксенова как раз… У Аксенова в записных книжках много имен, много фамилий его друзей. Помимо верхнего какого-то слоя: там Битов, Нагибин, Трифонов, не всегда он с ними дружил, помимо эмигрантских каких-то имен, типа Гладилина, есть совсем глубокий слой авторов, которые мелькнули парой книжек в шестидесятых-семидесятых и все, потом растворились. Из них, наверное, тоже чуть-чуть вышел мой Строгов, но это будут уже спойлеры.
ЛОФТ: А вот писателей по типу Улитина, например, ты бы куда отнес? Это советский писатель?
КАФЕЛЬ: Все, написанное в Советском Союзе является советской литературой, даже если ее называют антисоветской.
ЛОФТ: Ответ Федора Двинятина: все, что написано русскими буквами…
КАФЕЛЬ: Серсо!
АСАП: Я знаю про серсо, и я читал Улитина. И Улитин очень странный. Мне кажется, это слишком герметическая литература, она даже больше герметическая, чем Ханс Волльшлегер со своими «Отростками сердца». Потому что если искать там смысл, то без примечаний редакторских вообще невозможно понять, что имеется в виду. А если не искать там смысла, а смотреть только на форму, то в принципе она довольно-таки повторяется. То есть, такие коробочки внутри коробочек внутри коробочек, какие-то магнитофонные ленты внутри лент внутри лент. Вот у меня этот сборник «Четыре кварка» и там еще каких-то пара вещей есть больших. В оригинале, я так понимаю, это были рукодельные книжечки, Улитин их делал со своими иллюстрациями от руки, и там собран основной корпус. И я это все подряд читал, и это довольно однообразно. То есть, это очень клево, ничего подобного в Советском Союзе, мне кажется, не делали, но это, во-первых, однообразно, а во-вторых, непонятно зачем. И это оставляет такое неприятное ощущение…
ЛОФТ: Тебя это злило?
АСАП: Меня это не злило, у меня это оставляло ощущение жалости: такая очень ущербная, бедная жизнь человека в Советском Союзе.
ЛОФТ: Ну, он многое пережил.
АСАП: Да, его пытали, ногу сломали, репрессировали и так далее. Я к тому, что у него удовольствие в жизни — это какие-то фильмы, которые подпольно показывают, какие-то плохие переводы классической английской литературы, какие-то вечеринки с вином из пакетов, с коллегами-литераторами другими подпольными. И просто смотришь на это и понимаешь, насколько мы сейчас зажравшиеся твари, потому что у нас такое количество контента, доступное по щелчку пальцев, и мы ни хера не пишем вот даже на уровне Улитина. Ну, мы в широком смысле. А человек вот реально из максимально бедного массива входящих данных, превозмогая физическую, моральную боль и скуку, вот сидел и вытачивал лобзиком вот эти герметические книжечки. Это заслуживает очень большого уважения. Я не думаю, что я смогу это понять и полюбить, но я очень уважаю Улитина в этом плане, и, с одной стороны, его жалко, а с другой стороны, за нас стыдно. Понимаете, вот такие эмоции у меня от него.
КАФЕЛЬ: Ты когда сейчас рассказывал про Улитина, мне почему-то в голову пришла книжка Сорокина «Русские пословицы и поговорки». И там просто алфавитный сборник придуманных им, либо записанных где-то наполовину матерных русских пословиц и поговорок, как бы ничего не предвещало, вот тоже — вещь в себе: непонятно зачем, непонятно кому, просто можно читать и ржать. А я когда читал, где-то на середине, меня проперло — я начал видеть в этом систему, сюжет, я начал уже воображать, что это с героями какими-то происходят какие-то действия, и он именно так эти пословицы и поговорки поместил. Ну, короче, шиза полная.
АСАП: Ну это не шиза, кстати, это парейдолия. У нас заложено же в мозгу стремление видеть узоры и повторяющиеся паттерны. Когда-то это было обусловлено сугубо практическими целями обучения обезьяны, но вот когда это перенеслось на манипулятивно-символьно-языковой контур, это, конечно, стало очень интересным. И поэтому, мне кажется, до сих пор самое перспективное письмо, которое, к сожалению, мало развито — это мотивное письмо, когда повторяются-повторяются паттерны, которые складываются в какие-то паттерны, складываются в темы, и это гораздо лучше, чем… Вот я, кстати, хотел про структуру спросить у Кафеля. Потому что в нашем ужасно оскудевшем мире все знают только про трехактную структуру, как в голливудских фильмах. Вот я пытался поговорить про трехактную структуру с людьми на DTF (никогда не разговаривайте с людьми на DTF, вообще ни о чем желательно), и они мне доказывали, что трехактная структура была всегда с зари человечества, и даже если она была не трехактной структурой, она была на самом деле трехактной… Я не знаю, зачем я пускаюсь в такие глубины в спорах с незнакомыми людьми в интернете. Я говорил, вот смотрите, я разбираю пьесу Софокла «Эдип-царь», трагедию, и у нее семнадцать составных частей. Семнадцать! Это не трехактная структура вообще, она сложная. Они говорят, ну вот если ее вот так вот сократить, ужать — будет трехактная структура, то же самое. Просто зачем-то раньше люди все избыточно усложняли. Зачем они все усложняли? Непонятно. Трехактная структура, как известно, произошла из очень плохого понимания Джозефом Кэмпбеллом «Исторических корней волшебной сказки» Проппа. Но вообще, по-моему, вы видели, наверное — колесо истории, там, где начало путешествия, потом приходит магический посланник, потом испытание, потом еще что-то, потом возвращение с триумфом. Вот, по-моему, это появилось в таком артикулированном виде в Bildungsroman немецких романтиков в девятнадцатом веке… Я все это очень длинное предисловие веду к тому, что, во-первых, например, в новом романе Кауфельдта совершенно не такая структура, а структура, близкая к «Эдипу-царю» семнадцатичастному. Во-вторых, зачем нам вообще нужна традиционная трехактная голливудская или вот эта «колесная» Кэмпбелловская структура, если можно историю рассказать гораздо более интересными путями. Как это, например, делает режиссер Флэнаган в своем сериале The Haunting of Hill House.
КАФЕЛЬ: Да, семнадцатиактная структура это вам не теория музыки и не rocket science.
АСАП: Да.
ЛОФТ: Ты очень интересно к этому подвел. То есть, у нас сейчас трехактная структура, и ее не было раньше?
АСАП: Вот у меня такое ощущение, что трехактная структура — она вместе с капиталистическим реализмом и Голливудом на нас свалилась. А вообще-то жизнь, естественно, сложнее любых структур. И мне кажется, что раньше, во времена древних греков и даже еще во времена романтиков девятнадцатого века, получалось гораздо лучше ловить историю в более фасеточные такие рамки, то есть даже если посмотреть на «Грубиянские годы» Жана Пауля — там тоже довольно сложная, барочная такая структура, хотя это девятнадцатый век, со множеством саб-плотов, каких-то отступлений, чего-то еще. Там очень сложная структура.
ЛОФТ: В то же время было колоссальное количество произведений, которые вполне себе вписываются в ту самую трехактную структуру. И сейчас есть произведения, которые не вписываются в трехактную. Например, ты упомянул роман Кафеля, который не вписывается. «Причалы» твои тоже не вписываются в трехактную
АСАП: Наверное, да. Но там все поломано и перемешано.
ЛОФТ: Можно взять практически любой роман того же, например, Сорокина от «Нормы» восьмичастной до вообще бесструктурных вещей как «Сердца четырех». Такие произведения, они всегда есть, выпадающие.
АСАП: Я протестую, кстати, «Сердца четырех» можно заключить в трехактную структуру при желании.
ЛОФТ: «Сердца четырех» можно куда угодно заключить, этим они и… прекрасны! Знаешь, что это мне напоминает? Подавляющее большинство попсовой музыки пишется по абсолютно определенным гармониям, которые приятны человеческому уху. Собственно, потому это и попса, потому это и нравится огромному количеству людей. Кто-то может вытащить в своей музыкальной композиции забытый аккорд семнадцатого века, который использовался где-то там, кем-то там, потом был забыт. Причем это может сделать кто-нибудь совершенно неожиданный вроде Константина Меладзе. И я уже не говорю о какой-то серьезной музыке, когда слом ожидания рождает шедевр. И вот трехактная структура — это ожидаемое что-то для читателя. Он идет по известным рельсам, он знает, что вот тут будет завязка, развязка, финал, бла-бла-бла. Все максимально просто, и ему от этого хорошо. Он получает историю, она ему понятна, она ему приятна. Это может быть детективная история, это может быть просто что-то рассказанное, но он получает удовольствие от того, что он знает, что в итоге получит. Но в то же время всегда были, есть, сейчас есть и, надеюсь, что будут и в дальнейшем экспериментаторы, которые ломают вот эти известные структуры, ломают стандартные гармонии, придумывают что-то новое. Это и есть, наверное, большая литература? Как вы думаете?
КАФЕЛЬ: Ты сейчас, когда про музыку говорил, про поп-музыку и про внезапные аккорды семнадцатого века, ты сейчас мои мысли о моем третьем романе описал.
АСАП: Я хотел бы помочь Кафелю развить тему. У нас есть вопрос от нашего слушателя Альберта М. из города Ессентуки. Он хотел спросить нас, думаю, в первую очередь, тебя, как можно было бы вступить с музыкой в диалог словесно? Откуда такая писательская одержимость писать в музыке, сочинять в картинах, ассоциировать во вкусе? Что такое читательская словесность и как это все связано с музыкой?
КАФЕЛЬ: Я как раз вчера тебе сказал, что во втором романе две песни, по крайней мере, есть, зашитые в двух главах, и тебе нужно послушать определенный альбом. И я как раз подумал о том, что в рассказах у меня, практически в каждом рассказе, какая-то песня вшита. Потом в «Ведьмочерве» практически в каждой главе там по одной-две песни тоже вшито: Mayhem, Queens of the Stone Age и так далее. А во втором романе у меня внезапно всего две, не настолько я уже игрив был, чтобы туда еще песни засовывать. И я подумал, о, неужели отпускает? А потом понял, что третий роман-то у меня тоже будет, блин, про музыку и про песни… И еще про музыку, вот в соответствии с тем, что было сказано про структуру: в первом выпуске, когда мы болванку делали с вопросами, Асап хотел спросить, почему у меня так странно устроены коллажи в нарративах; иногда кажется, что склейка грубая, потом присматриваешься, но, видишь, что твое восприятие как бы тоже не очень тонкое. Коллажи и склейка, они у меня произошли от видеоклипов девяностых, когда снимали хорошие сюжетные клипы, с монтажом профессиональным. В первую очередь, Depeche Mode. Я осознал четко некоторое время назад, что у меня первый сборник рассказов — это сценарии для видеоклипов Depeche Mode и Tool. Во втором сборнике рассказов почти в каждом — какая-то песня. Мне нравится визуализировать то, что я бы хотел видеть как видеоклип, хороший такой, с сюжетом, из девяностых, из начала двухтысячных, то есть когда они реально были вот такие, с расказанной историей, которая может перемежаться эпизодами, где группа просто играет в подвале у Бэтмена. Мне от этого уйти. И немножечко это на романы тоже переползло, на «Ведьмочервя» в первую очередь. Но теперь я надеюсь от этой клиповой структуры наконец-то уйти уже.
ЛОФТ: Но музыка останется.
КАФЕЛЬ: В третьем будет много музыки, но она будет не в структуру вклиниваться, а просто в сам текст, словами, я надеюсь. В структуру меня уже задолбало все это нарезать. Нужно уже нормальный нарратив такой прямолинейный сделать. Я все шучу, что я хочу написать роман толщиной с «Маятник Фуко» — вот такой.
ЛОФТ: Музыку ведь по-разному встраивают в произведения. Например, Джойс ведь говорил, что с тех пор, как он написал «Сирен», он не может больше слышать никакую музыку, потому что это музыкальная глава, к слову о трехчастных, опять же, произведениях. И музыка может быть на уровне структуры, музыка может быть на уровне отсылок и цитат, на уровне музыкальности текста просто.
КАФЕЛЬ: Да, хотелось бы достичь некоторой музыкальности текста.
АСАП: Рахманинов, по-моему, говорил, музыка нужна не для массажа кончиков пальцев пианиста, а чтобы создавать настроение.
КАФЕЛЬ: Вспомним первое предложение «Гипериона» Дэна Симмонса — роман начинается с музыки Рахманинова. И если знать, что Консул исполняет на «Стейнвее» на космическом корабле в первом предложении «Гипериона», то сразу задается общая тональность вообще всего романа. И это шикарно. Когда первый раз читаешь, ты не знаешь вообще, что это такое, что он там играет на пианино, что-то бренчит. А потом, когда узнаешь, что это за произведение — «Прелюдия до-диез минор», она же «Московские колокола» Рахманинова, то понимаешь, что Симонс просто берет и одним первым предложением задает весь роман, всю структуру его.
АСАП: Я сейчас обнаружил, что у меня и в начале, и в конце цитата из песни Tonight, Tonight SMASHING PUMPKINS. Интересно, откуда это пришло?
Time is never time at all
You can never ever live
Without leaving a piece of youth.
ЛОФТ: Больше всего мне понравилось, что ты обнаружил что-то в своем произведении.
АСАП: Ну да, я ж не перечитываю особенно.
ЛОФТ: Обнаружил, то есть это и задумка была такая, а оно из тебя как бы вылилось?
АСАП: Да, оно как-то само играет в голове и выливается.
ПЕРЕКУР
АСАП: На самом деле, Альберт прислал много вопросов, я просто половину из них не понимаю. Я пытаюсь понять, как их перефразировать. «Как вы можете прокомментировать движение серьезной литературы к негативности? Является ли это возможностью для инфильтрации рядов эскапистской идиотики?»
КАФЕЛЬ: Потому что антиутопию всегда проще писать, чем утопию, вот и все. Потому что реальная утопия невозможна, и любая утопия на бумаге будет восприниматься людьми, пережившими двадцатый и двадцать первый век, как сооружение на глиняных ногах.
АСАП: По-моему, это называется эффект выученной беспомощности или даже синдром.
КАФЕЛЬ: Меня недавно спрашивал друг, что вот антиутопий до хрена, а что из современной литературы можно прочитать, где была бы утопия, вот хорошая утопия. И после Стругацких я уже не могу ничего вспомнить, ну этот, Хольм ван Зайчик, «Дело жадного варвара», он про то как Российская империя объединилась с Китаем, и на всей территории Российской империи стали китайские законы, китайские порядки. И написал, на самом деле, это товарищ Рыбаков, который из семинара Стругацких, который написал сценарий к ненавидимому мной фильму «Гадкие лебеди» Лопушанского. И первая книга цикла у него довольно приятная, интересно читать, а дальше он скатывается в такой вот утопический детектив: в идеальном мире совершено преступление, что нарушает идеал Поднебесной, и как мы это преступление раскрываем.
АСАП: Так это отсюда Сорокинский цикл растет будущего, где Китай захватил Россию в культурном плане?
КАФЕЛЬ: Нет, Рыбаков после него писал, прикрылся псевдонимом, и один том я даже перечитывал. Это была именно приятная утопия, в которой было интересно находиться, но сейчас, я уверен, нашел бы моменты, абсолютно оторванные от реальности, и они меня бесили бы. Поэтому как бы сложно писать утопии, е-мое.
АСАП: Ну, утопия невозможна после конца истории с крушением Советского Союза как последнего модернистского проекта. Нет модернизма — нет утопии, нет альтернативы капиталистическому реализму. Все очень логично. Зачем еще какие-то утопии, которые не основаны на технофантазиях оптимистов?
ЛОФТ: Ну крутимся вокруг Фишера, крутимся. Давай, Асап, жги уже, надо сказать про Марка Фишера.
АСАП: Ну что Марк Фишер? Марк Фишер умер за наши грехи, а мы остались такими же, как были. Не знаю, что еще можно сказать.
ЛОФТ: Но это был его выбор.
АСАП: Я не очень, кстати, понимаю, что такое «сорокинская прошивка» в голове. Я могу предположить: это когда у тебя есть колоссальный классический базис русской литературы, когда у тебя есть колоссальный советский базис и когда у тебя есть интенция и колоссальные стилистические способности, чтобы все это деконструировать, чтобы это стало веселым познавательным страшным ритуалом.
КАФЕЛЬ: Да, я очень скромный. Ну, советских писателей я читал за последние лет десять довольно много. Я специально выискивал всяких неизвестных, никому не нужных чуваков, которых в электронке иногда даже нету. Мне просто это было интересно. И там есть шикарные неограненные алмазы. Я сейчас всех не назову, я их так не помню наперечет. Но вот после Аксенова как раз… У Аксенова в записных книжках много имен, много фамилий его друзей. Помимо верхнего какого-то слоя: там Битов, Нагибин, Трифонов, не всегда он с ними дружил, помимо эмигрантских каких-то имен, типа Гладилина, есть совсем глубокий слой авторов, которые мелькнули парой книжек в шестидесятых-семидесятых и все, потом растворились. Из них, наверное, тоже чуть-чуть вышел мой Строгов, но это будут уже спойлеры.
ЛОФТ: А вот писателей по типу Улитина, например, ты бы куда отнес? Это советский писатель?
КАФЕЛЬ: Все, написанное в Советском Союзе является советской литературой, даже если ее называют антисоветской.
ЛОФТ: Ответ Федора Двинятина: все, что написано русскими буквами…
КАФЕЛЬ: Серсо!
АСАП: Я знаю про серсо, и я читал Улитина. И Улитин очень странный. Мне кажется, это слишком герметическая литература, она даже больше герметическая, чем Ханс Волльшлегер со своими «Отростками сердца». Потому что если искать там смысл, то без примечаний редакторских вообще невозможно понять, что имеется в виду. А если не искать там смысла, а смотреть только на форму, то в принципе она довольно-таки повторяется. То есть, такие коробочки внутри коробочек внутри коробочек, какие-то магнитофонные ленты внутри лент внутри лент. Вот у меня этот сборник «Четыре кварка» и там еще каких-то пара вещей есть больших. В оригинале, я так понимаю, это были рукодельные книжечки, Улитин их делал со своими иллюстрациями от руки, и там собран основной корпус. И я это все подряд читал, и это довольно однообразно. То есть, это очень клево, ничего подобного в Советском Союзе, мне кажется, не делали, но это, во-первых, однообразно, а во-вторых, непонятно зачем. И это оставляет такое неприятное ощущение…
ЛОФТ: Тебя это злило?
АСАП: Меня это не злило, у меня это оставляло ощущение жалости: такая очень ущербная, бедная жизнь человека в Советском Союзе.
ЛОФТ: Ну, он многое пережил.
АСАП: Да, его пытали, ногу сломали, репрессировали и так далее. Я к тому, что у него удовольствие в жизни — это какие-то фильмы, которые подпольно показывают, какие-то плохие переводы классической английской литературы, какие-то вечеринки с вином из пакетов, с коллегами-литераторами другими подпольными. И просто смотришь на это и понимаешь, насколько мы сейчас зажравшиеся твари, потому что у нас такое количество контента, доступное по щелчку пальцев, и мы ни хера не пишем вот даже на уровне Улитина. Ну, мы в широком смысле. А человек вот реально из максимально бедного массива входящих данных, превозмогая физическую, моральную боль и скуку, вот сидел и вытачивал лобзиком вот эти герметические книжечки. Это заслуживает очень большого уважения. Я не думаю, что я смогу это понять и полюбить, но я очень уважаю Улитина в этом плане, и, с одной стороны, его жалко, а с другой стороны, за нас стыдно. Понимаете, вот такие эмоции у меня от него.
КАФЕЛЬ: Ты когда сейчас рассказывал про Улитина, мне почему-то в голову пришла книжка Сорокина «Русские пословицы и поговорки». И там просто алфавитный сборник придуманных им, либо записанных где-то наполовину матерных русских пословиц и поговорок, как бы ничего не предвещало, вот тоже — вещь в себе: непонятно зачем, непонятно кому, просто можно читать и ржать. А я когда читал, где-то на середине, меня проперло — я начал видеть в этом систему, сюжет, я начал уже воображать, что это с героями какими-то происходят какие-то действия, и он именно так эти пословицы и поговорки поместил. Ну, короче, шиза полная.
АСАП: Ну это не шиза, кстати, это парейдолия. У нас заложено же в мозгу стремление видеть узоры и повторяющиеся паттерны. Когда-то это было обусловлено сугубо практическими целями обучения обезьяны, но вот когда это перенеслось на манипулятивно-символьно-языковой контур, это, конечно, стало очень интересным. И поэтому, мне кажется, до сих пор самое перспективное письмо, которое, к сожалению, мало развито — это мотивное письмо, когда повторяются-повторяются паттерны, которые складываются в какие-то паттерны, складываются в темы, и это гораздо лучше, чем… Вот я, кстати, хотел про структуру спросить у Кафеля. Потому что в нашем ужасно оскудевшем мире все знают только про трехактную структуру, как в голливудских фильмах. Вот я пытался поговорить про трехактную структуру с людьми на DTF (никогда не разговаривайте с людьми на DTF, вообще ни о чем желательно), и они мне доказывали, что трехактная структура была всегда с зари человечества, и даже если она была не трехактной структурой, она была на самом деле трехактной… Я не знаю, зачем я пускаюсь в такие глубины в спорах с незнакомыми людьми в интернете. Я говорил, вот смотрите, я разбираю пьесу Софокла «Эдип-царь», трагедию, и у нее семнадцать составных частей. Семнадцать! Это не трехактная структура вообще, она сложная. Они говорят, ну вот если ее вот так вот сократить, ужать — будет трехактная структура, то же самое. Просто зачем-то раньше люди все избыточно усложняли. Зачем они все усложняли? Непонятно. Трехактная структура, как известно, произошла из очень плохого понимания Джозефом Кэмпбеллом «Исторических корней волшебной сказки» Проппа. Но вообще, по-моему, вы видели, наверное — колесо истории, там, где начало путешествия, потом приходит магический посланник, потом испытание, потом еще что-то, потом возвращение с триумфом. Вот, по-моему, это появилось в таком артикулированном виде в Bildungsroman немецких романтиков в девятнадцатом веке… Я все это очень длинное предисловие веду к тому, что, во-первых, например, в новом романе Кауфельдта совершенно не такая структура, а структура, близкая к «Эдипу-царю» семнадцатичастному. Во-вторых, зачем нам вообще нужна традиционная трехактная голливудская или вот эта «колесная» Кэмпбелловская структура, если можно историю рассказать гораздо более интересными путями. Как это, например, делает режиссер Флэнаган в своем сериале The Haunting of Hill House.
КАФЕЛЬ: Да, семнадцатиактная структура это вам не теория музыки и не rocket science.
АСАП: Да.
ЛОФТ: Ты очень интересно к этому подвел. То есть, у нас сейчас трехактная структура, и ее не было раньше?
АСАП: Вот у меня такое ощущение, что трехактная структура — она вместе с капиталистическим реализмом и Голливудом на нас свалилась. А вообще-то жизнь, естественно, сложнее любых структур. И мне кажется, что раньше, во времена древних греков и даже еще во времена романтиков девятнадцатого века, получалось гораздо лучше ловить историю в более фасеточные такие рамки, то есть даже если посмотреть на «Грубиянские годы» Жана Пауля — там тоже довольно сложная, барочная такая структура, хотя это девятнадцатый век, со множеством саб-плотов, каких-то отступлений, чего-то еще. Там очень сложная структура.
ЛОФТ: В то же время было колоссальное количество произведений, которые вполне себе вписываются в ту самую трехактную структуру. И сейчас есть произведения, которые не вписываются в трехактную. Например, ты упомянул роман Кафеля, который не вписывается. «Причалы» твои тоже не вписываются в трехактную
АСАП: Наверное, да. Но там все поломано и перемешано.
ЛОФТ: Можно взять практически любой роман того же, например, Сорокина от «Нормы» восьмичастной до вообще бесструктурных вещей как «Сердца четырех». Такие произведения, они всегда есть, выпадающие.
АСАП: Я протестую, кстати, «Сердца четырех» можно заключить в трехактную структуру при желании.
ЛОФТ: «Сердца четырех» можно куда угодно заключить, этим они и… прекрасны! Знаешь, что это мне напоминает? Подавляющее большинство попсовой музыки пишется по абсолютно определенным гармониям, которые приятны человеческому уху. Собственно, потому это и попса, потому это и нравится огромному количеству людей. Кто-то может вытащить в своей музыкальной композиции забытый аккорд семнадцатого века, который использовался где-то там, кем-то там, потом был забыт. Причем это может сделать кто-нибудь совершенно неожиданный вроде Константина Меладзе. И я уже не говорю о какой-то серьезной музыке, когда слом ожидания рождает шедевр. И вот трехактная структура — это ожидаемое что-то для читателя. Он идет по известным рельсам, он знает, что вот тут будет завязка, развязка, финал, бла-бла-бла. Все максимально просто, и ему от этого хорошо. Он получает историю, она ему понятна, она ему приятна. Это может быть детективная история, это может быть просто что-то рассказанное, но он получает удовольствие от того, что он знает, что в итоге получит. Но в то же время всегда были, есть, сейчас есть и, надеюсь, что будут и в дальнейшем экспериментаторы, которые ломают вот эти известные структуры, ломают стандартные гармонии, придумывают что-то новое. Это и есть, наверное, большая литература? Как вы думаете?
КАФЕЛЬ: Ты сейчас, когда про музыку говорил, про поп-музыку и про внезапные аккорды семнадцатого века, ты сейчас мои мысли о моем третьем романе описал.
АСАП: Я хотел бы помочь Кафелю развить тему. У нас есть вопрос от нашего слушателя Альберта М. из города Ессентуки. Он хотел спросить нас, думаю, в первую очередь, тебя, как можно было бы вступить с музыкой в диалог словесно? Откуда такая писательская одержимость писать в музыке, сочинять в картинах, ассоциировать во вкусе? Что такое читательская словесность и как это все связано с музыкой?
КАФЕЛЬ: Я как раз вчера тебе сказал, что во втором романе две песни, по крайней мере, есть, зашитые в двух главах, и тебе нужно послушать определенный альбом. И я как раз подумал о том, что в рассказах у меня, практически в каждом рассказе, какая-то песня вшита. Потом в «Ведьмочерве» практически в каждой главе там по одной-две песни тоже вшито: Mayhem, Queens of the Stone Age и так далее. А во втором романе у меня внезапно всего две, не настолько я уже игрив был, чтобы туда еще песни засовывать. И я подумал, о, неужели отпускает? А потом понял, что третий роман-то у меня тоже будет, блин, про музыку и про песни… И еще про музыку, вот в соответствии с тем, что было сказано про структуру: в первом выпуске, когда мы болванку делали с вопросами, Асап хотел спросить, почему у меня так странно устроены коллажи в нарративах; иногда кажется, что склейка грубая, потом присматриваешься, но, видишь, что твое восприятие как бы тоже не очень тонкое. Коллажи и склейка, они у меня произошли от видеоклипов девяностых, когда снимали хорошие сюжетные клипы, с монтажом профессиональным. В первую очередь, Depeche Mode. Я осознал четко некоторое время назад, что у меня первый сборник рассказов — это сценарии для видеоклипов Depeche Mode и Tool. Во втором сборнике рассказов почти в каждом — какая-то песня. Мне нравится визуализировать то, что я бы хотел видеть как видеоклип, хороший такой, с сюжетом, из девяностых, из начала двухтысячных, то есть когда они реально были вот такие, с расказанной историей, которая может перемежаться эпизодами, где группа просто играет в подвале у Бэтмена. Мне от этого уйти. И немножечко это на романы тоже переползло, на «Ведьмочервя» в первую очередь. Но теперь я надеюсь от этой клиповой структуры наконец-то уйти уже.
ЛОФТ: Но музыка останется.
КАФЕЛЬ: В третьем будет много музыки, но она будет не в структуру вклиниваться, а просто в сам текст, словами, я надеюсь. В структуру меня уже задолбало все это нарезать. Нужно уже нормальный нарратив такой прямолинейный сделать. Я все шучу, что я хочу написать роман толщиной с «Маятник Фуко» — вот такой.
ЛОФТ: Музыку ведь по-разному встраивают в произведения. Например, Джойс ведь говорил, что с тех пор, как он написал «Сирен», он не может больше слышать никакую музыку, потому что это музыкальная глава, к слову о трехчастных, опять же, произведениях. И музыка может быть на уровне структуры, музыка может быть на уровне отсылок и цитат, на уровне музыкальности текста просто.
КАФЕЛЬ: Да, хотелось бы достичь некоторой музыкальности текста.
АСАП: Рахманинов, по-моему, говорил, музыка нужна не для массажа кончиков пальцев пианиста, а чтобы создавать настроение.
КАФЕЛЬ: Вспомним первое предложение «Гипериона» Дэна Симмонса — роман начинается с музыки Рахманинова. И если знать, что Консул исполняет на «Стейнвее» на космическом корабле в первом предложении «Гипериона», то сразу задается общая тональность вообще всего романа. И это шикарно. Когда первый раз читаешь, ты не знаешь вообще, что это такое, что он там играет на пианино, что-то бренчит. А потом, когда узнаешь, что это за произведение — «Прелюдия до-диез минор», она же «Московские колокола» Рахманинова, то понимаешь, что Симонс просто берет и одним первым предложением задает весь роман, всю структуру его.
АСАП: Я сейчас обнаружил, что у меня и в начале, и в конце цитата из песни Tonight, Tonight SMASHING PUMPKINS. Интересно, откуда это пришло?
Time is never time at all
You can never ever live
Without leaving a piece of youth.
ЛОФТ: Больше всего мне понравилось, что ты обнаружил что-то в своем произведении.
АСАП: Ну да, я ж не перечитываю особенно.
ЛОФТ: Обнаружил, то есть это и задумка была такая, а оно из тебя как бы вылилось?
АСАП: Да, оно как-то само играет в голове и выливается.
ПЕРЕКУР
АСАП: На самом деле, Альберт прислал много вопросов, я просто половину из них не понимаю. Я пытаюсь понять, как их перефразировать. «Как вы можете прокомментировать движение серьезной литературы к негативности? Является ли это возможностью для инфильтрации рядов эскапистской идиотики?»
КАФЕЛЬ: Потому что антиутопию всегда проще писать, чем утопию, вот и все. Потому что реальная утопия невозможна, и любая утопия на бумаге будет восприниматься людьми, пережившими двадцатый и двадцать первый век, как сооружение на глиняных ногах.
АСАП: По-моему, это называется эффект выученной беспомощности или даже синдром.
КАФЕЛЬ: Меня недавно спрашивал друг, что вот антиутопий до хрена, а что из современной литературы можно прочитать, где была бы утопия, вот хорошая утопия. И после Стругацких я уже не могу ничего вспомнить, ну этот, Хольм ван Зайчик, «Дело жадного варвара», он про то как Российская империя объединилась с Китаем, и на всей территории Российской империи стали китайские законы, китайские порядки. И написал, на самом деле, это товарищ Рыбаков, который из семинара Стругацких, который написал сценарий к ненавидимому мной фильму «Гадкие лебеди» Лопушанского. И первая книга цикла у него довольно приятная, интересно читать, а дальше он скатывается в такой вот утопический детектив: в идеальном мире совершено преступление, что нарушает идеал Поднебесной, и как мы это преступление раскрываем.
АСАП: Так это отсюда Сорокинский цикл растет будущего, где Китай захватил Россию в культурном плане?
КАФЕЛЬ: Нет, Рыбаков после него писал, прикрылся псевдонимом, и один том я даже перечитывал. Это была именно приятная утопия, в которой было интересно находиться, но сейчас, я уверен, нашел бы моменты, абсолютно оторванные от реальности, и они меня бесили бы. Поэтому как бы сложно писать утопии, е-мое.
АСАП: Ну, утопия невозможна после конца истории с крушением Советского Союза как последнего модернистского проекта. Нет модернизма — нет утопии, нет альтернативы капиталистическому реализму. Все очень логично. Зачем еще какие-то утопии, которые не основаны на технофантазиях оптимистов?
ЛОФТ: Ну крутимся вокруг Фишера, крутимся. Давай, Асап, жги уже, надо сказать про Марка Фишера.
АСАП: Ну что Марк Фишер? Марк Фишер умер за наши грехи, а мы остались такими же, как были. Не знаю, что еще можно сказать.
ЛОФТ: Но это был его выбор.
АСАП: Это был его выбор, безусловно. Я не знаю, странное такое ощущение, вот я читаю его последние лекции, «Посткапиталистическое желание», и там, в принципе, вообще ничего не предвещает, что он через три недели… Наоборот, у него там курс прописан на пятнадцать недель вперед.
КАФЕЛЬ: Так, может, опять тамплиеры?
АСАП: Тамплиеры, думаешь? Капиталистические тамплиеры. Давайте вернемся к началу, к теме писателей и к Володину. Вот у Володина экстремальный случай антиутопии в его постбеккетовском письме. Во вселенной Антуана Володина концлагеря стали просто формой организационного устройства типа городов, то есть, у него такая вселенная-ГУЛАГ, логика которой растянута на все человечество. И писатели в его мире, в том числе в микроромане «Писатели» — у него все романы микро и еще разбиты на мелкие новеллы — писатели у него что-то среднее между шаманами, магами, знахарями, которые должны рассказывать истории об этой реальности, об ее иллюзорности, при том, что все это иллюзорно, потому что эти концлагеря — в Бардо, то есть максимально абсурдный мир. Вот почему это постбеккетовское письмо — потому что, во-первых, персонажи у него никак не могут заткнуться никто, они должны постоянно говорить и писать. Во-вторых, потому что нужно продолжать говорить о каких-то фундаментальных вещах, описывающих реальность, в которой мы находимся, и о чем-то за пределами этой реальности, потому что, если это не делать, ну, пиздец иначе. И хотелось бы все-таки услышать от Кафеля, в частности, кто такие писатели и зачем они нужны сегодня.
КАФЕЛЬ: Да не знаю я.
АСАП: Не, ну это честный ответ.
ЛОФТ: Это орден шелкового умника.
КАФЕЛЬ: Никогда не думал об этом, потому что это как сороконожка. Сороконожка идет, а если она начнет задумываться о том, а как я на сорока ногах-то иду, она споткнется и упадет.
АСАП: Это логично.
ЛОФТ: Задумываешься, что сегодня роль писателя сильно отличается от роли писателя, скажем, лет четыреста назад.
АСАП: Во-первых, я не уверен, что четыреста лет назад были писатели. Ну, то есть, были, конечно. Четыреста лет назад — это какой, семнадцатый век? Ну, был Сервантес, конечно, был Шекспир.
ЛОФТ: Такие себе писатели, да.
АСАП: Рабле был за сто лет до этого. Нет, я к тому, что это единичные экземпляры, совершенно удивительные. И на самом деле они абсолютно не вырастали из того, что было вокруг них, и с ним не соотносились. Вот Гарольд Блум очень вами всеми любимый указывает, по-моему, чуть ли не первый на эту абсолютно очевидную вопиющую штуку, что история литературы и история культуры, соответственно — она построена целиком на исключениях, потому что Данте не отражал никак флорентийскую литературу того столетия, Рабле никак не отражал французскую литературу, Сервантес — испанскую. В них, конечно, были элементы этого всего, они из них состояли, но они сделали что-то абсолютно новое, и именно это новое и запомнилось. А мы теперь учим историю культуры по исключениям, которые противоречат культурной ситуации того периода. И так вплоть до Джойса, это очень странно.
ЛОФТ: Это не странно, по-моему, это совершенно логично.
КАФЕЛЬ: И еще монастырские библиотеки, которые не сгорели — это исключение.
ЛОФТ: Лет через четыреста, например, ведь не будут помнить все эти сотни тысяч людей, которые пишут сегодня. Будут помнить, там, Андрея Гелианова, Кауфельдта, еще, там, двух-трех, будут говорить, что эти люди не отражали течения времени. Это к слову о том, что есть испанская литература, английская, немецкая, но кого будут помнить через четыреста или через двести лет — это все выбивающиеся из этих литератур, все представители наднациональной литературы. Поэтому и отличается Сервантес от испанской литературы, поэтому и Данте от стандартной литературы, которая его окружала. Это и есть большая литература.
АСАП: Да, но вот как ты думаешь, почему у них получилась та литература, которая у них получилась? Они делали то, что они хотели.
ЛОФТ: И они были талантливы!
КАФЕЛЬ: Сервантес, по-моему, в тюрьме сидел.
АСАП: Да где они там только не сидели.
ЛОФТ: Да и Данте, я хочу сказать, бедокурил.
АСАП: Данте вообще в изгнание убежал, потому что его в родном городе повесить хотели политические противники, насколько я помню, то ли Гвельфы, то ли Гибеллины, я их путаю все время. И я вот не понимаю смысла: учитывая, что, скорее всего, никакой объективной известности нам и не светит, у нас не будет даже тиража двадцать тысяч экземпляров в мейнстримном издательстве, я не вижу смысла идти на компромиссы в том, что мы пишем, просто никакого абсолютно. Надо делать именно то, что хочется, именно то, что кажется важным, и тогда, может быть, у этого будет шанс на что-то повлиять, что-то изменить и как-то остаться. Я, конечно, пессимистично настроен в этом отношении, но, мне кажется, иначе нельзя.
КАФЕЛЬ: Про компромиссы. Ася Михеева, писательница, живущая в Аргентине, рассказала, что когда она отправила роман в российское издательство, те прочитали текст, связались с ней и говорят, извините, а можно мужа главной героини не убивать, это не входит в стратегию издательства. Она посмеялась и отправила роман в другое издательство.
ЛОФТ: И тут мы понимаем, почему антиутопия пользуется популярностью, а утопия — нет.
АСАП: Да, и легче представить конец света, чем конец капитализма.
ЛОФТ: Все эти рассуждения приводят нас к такому большому вопросу о ремесленниках и художниках. Стивен Кинг — художник или ремесленник?
АСАП: В зависимости от того, какую область его творчества взять. Среди его реалистических произведений самое лучшее, наверное, «Тело», по которому сняли фильм Stand By Me. Это очень хороший текст, очень сильная история взросления, и у Кинга много было именно реалистических текстов, и в них, мне кажется, он, скорее, художник. А когда он пишет хоррор, он, конечно, крепкий ремесленник, но все равно Кинг в большинстве своих текстов сильно выше среднего уровня, который обычно можно встретить по больнице. Другое дело, что я читать его уже не могу абсолютно. Я прочел всю его на тот момент библиографию в 2006 году и несколько раз пробовал читать более поздние произведения, и, по-моему, это просто чудовищно. Был там у него роман «Мистер Мерседес» в 2014 году, который потом стал частью трилогии, и там первые двадцать страниц просто герой сидит, смотрит телевизор и описывает все, что он видит по телевизору. Причем это не имеет никакого, по-моему, отношения к последующему сюжету. Буквально вот этот принцип «пиши о том, что знаешь». Или, допустим, роман про убийство Кеннеди «11/22/63», там восемьдесят страниц всяких примет времени, которые должны в это погрузить. Я вижу, как это сделано, и понимаю, что не хочу это читать… Да, я голосую за ремесленника.
ЛОФТ: Я, кстати, недавно провел эксперимент, и оказалось, что практически никто из моего окружения не читал повесть Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Но при этом фильм смотрели все.
АСАП: Да, фильм сильно затмил повесть. Он, по-моему, до сих пор не слезает с первых трех строчек рейтинга IMDB.
КАФЕЛЬ: А мне даже и фильмы по Кингу не нравятся. Ни «Зеленая миля», ни «Побег…» Там вот это вот «мышонка убили», ну, блин.
ЛОФТ: Я лично считаю Стивена Кинга комбинацией ремесленника и художника, потому что он умеет писать.
АСАП: Что по нынешним временам уже само по себе как бы довольно много.
ЛОФТ: А нынешние времена — это когда не умеют писать?
АСАП: Ну, ты прав в том плане, что у Кинга у него бывают эти приступы иррационального вдохновения, когда в его знакомый уже конструктор сюжетно-приемный внезапно вторгается какая-то штука, которая совершенно, может быть не к месту, но она цепляет. И мне кажется, он сам вообще не понимает, что он делает…
ЛОФТ: И вот это — признак художника.
АСАП: Я думаю, да. Потому что вот он написал «Сияние», которое Кубрик очень хорошо экранизировал, извлек из него еще больше, чем там было заложено, и Кинг вообще не врубился, очень сильно ругался и сделал свою ужасную версию.
КАФЕЛЬ: Вот мы начали про Кубрика, про штуку не к месту, и Флэнаган сейчас снимает «Темную башню», и представьте, что Флэнаган из «Темной башни» сможет вытащить, что он сотворит с этой по сути довольно банальной историей, если он реально развернется.
ЛОФТ: «Темная башня» — это в принципе вселенная Стивена Кинга, потому что все, что он пишет — это все из вселенной «Темной башни», так или иначе. Амбициозный проект у Флэнагана. Но, учитывая, как он снимает это, будет что-то интересное.
АСАП: Я думаю, у него все получится, если у него будет достаточный бюджет, и если ему позволят сильно играться со сценарием и дописывать свое, потому что самая сильная сторона Флэнагана это, конечно, его монологи, и диалоги фирменные о природе бытия. Я заметил, англоязычные люди часто на них ругаются в своих критических рецензиях — мне кажется, это большая глупость, потому что вот как раз монологи, за каждый из которых хочется дать «Оскара» это сильная сторона Флэнагана. Иногда еще драматургия, да. В «Призраках дома на холме» драматургия такая, что хочется это выписывать в тетрадочку, раскладывать по каждой серии и использовать как учебное пособие. Я так раньше делал с сериалом «Прослушка». Я не увидел этого в «Полуночной мессе» и «Докторе сне», но я увидел там те самые монологи замечательные. У него большой талант, но он неравномерен, мне кажется. Я не знаю, от чего это зависит, может, от продюсеров.
КАФЕЛЬ: «Полуночная месса» — она же тоже такой поклон Кингу. Ты там много Кинга увидел из того, что ты читал?
АСАП: Да, это абсолютно Кинговская история, она на многое похожа — на «Безнадегу», на что-то еще. Последняя, по-моему, книга Кинга, которую я прочитал, был сборник «Все предельно», там, где была гениальная новелла про гостиничный номер, Салентхилловская, очень… Кстати! Кафель, скажи, пожалуйста, почему у тебя в новом романе прям такое количество Сайлент-Хилла?
КАФЕЛЬ: В первом выпуске уже немного говорили мы про это. Я полез читать про Сентрейлию — реальный город-прототип Сайлент-Хилла, и больше уже про него думал, чем про игры. Второй роман — он про людей, которые стремятся вернуться в прошлое хоть каким-нибудь образом, потому что им кажется, что в прошлом было лучше. В городочке Строгово им было хорошо, как им кажется. И когда они пытаются вернуться к прошлому, когда они любой ценой туда попадают, ничего хорошего не случается, потому что нельзя улучшить свою жизнь, вернувшись в прошлое. Можно только двигаясь вперед, а они тянутся в прошлое, и, к сожалению, ничего хорошего из этого не выходит.
АСАП: Хотел бы ты вернуться в прошлое? И как ты считаешь, пытается ли вернуться в некое фантомное прошлое русская литература сейчас, если она существует?
КАФЕЛЬ: Ну, естественно, как слабый человек, хотел бы побродить по Ленинграду года девяносто восьмого-двухтысячного, но просто на один денечек, чтобы увидеть вот эти места и время, когда мы заканчивали школу, чисто в ностальгических целях. То, что русская литература пытается вернуться в прошлое — нет, не думаю, потому что, мне кажется, слишком мало современной русской литературы привязано к этому прошлому.
АСАП: Тогда почему у нас есть такое количество современной русской литературы, про условные девяностые? Двадцать пять лет прошло!
КАФЕЛЬ: Ну так это не прошлое, это, грубо говоря, чуть-чуть оставшееся за порогом современности. Мы девяностые еще не пережили. В какого молодого писателя ни ткнешь сейчас, он уже, наверное, не читал Аксенова. Соответственно, он не знает, что у Аксенова есть такие прикольные приемы, что он в 1975 году написал советскую «Радугу тяготения». Эти молодые в массе ориентируются больше на девяностые, как ты сказал, и я с высоты своего возраста тоже не могу понять, что вот движет двадцатилетними и тридцатилетними, которые пишут о девяностых. Что это? Хотят они вернуться в прошлое? Черт их разберет.
АСАП: У меня был в 2019 году такой сон, интересно, что я его записал, в котором я перемещался во времени, во сне, в 2009 год, в 1999, в 1989, когда я существовал, но чуть-чуть, был маленьким. И там во сне была интересная градация легкости восприятия, как будто чем дальше во времени, тем все воспринимается более четким, простым и более наполненным жизнью. И по сравнению с этим было видно, что реальность, в которой мозг живет сейчас, она какая-то совсем картонная, перенасыщенная сигналами и из нее как будто вынута вот эта жизненная сердцевина. Я тогда задумался, насколько вообще можно отделить вот для нас, условных ровесников нового государства, насколько мы можем отделить становление жизни страны, всего этого жизненного пространства, от собственных элементов биографии. Потому что когда мы были детьми, страна была ребенком. Когда мы были молодыми людьми, она проходила зрелость. Сейчас вот кризис, видимо, среднего возраста или я не знаю что. Просто интересно, насколько в воспоминаниях, в ощущениях можно отделить от себя происходящее в связи с путешествием времени.
КАФЕЛЬ: Меня в другую сторону отделяет. Как меня после прочтения всего Довлатова отделило туда в семидесятые куда-то, я вот, похоже, там бултыхаюсь. Сложный вопрос, потому что я никогда себя не ассоциировал со страной, скорее, с городом. А город для меня — вот такой вот Ленинград как тогда и остается, ничего с этим поделать не могу.
ЛОФТ: Из всего, что ты говорил в последнее время, у меня закономерный по-моему такой вопрос возникает, ты считаешь, что раньше было лучше?
АСАП: Я не считаю, что раньше было лучше, я считаю, что сейчас не очень. А «раньше» — оно какое-то гипотетическое, оно может отодвигаться все дальше и дальше. Было ли лучше в девяностых, шестидесятых, двадцатых, в девятнадцатом веке, в семнадцатом? Может, в Вавилоне было хотя бы лучше как-то, с табличками?
ЛОФТ: Просто это такое довольно частое мнение, что раньше умели писать, а вот сейчас они не умеют. Раньше была литературная критика, а вот сейчас ее уже нет.
АСАП: Да нет, я думаю, все остается примерно одинаково в плане и талантов, и критики. Экономическая система сильно меняется. Сейчас она вообще в полной чудовищной жопе. Я думаю, в основном по политэкономическим причинам сейчас невозможна ни нормальная литература, ни нормальная критика, ни нормальные читатели. Сейчас все настолько отформатировано и загнано в какие-то кубики холодца, что… Я не знаю просто, что об этом сказать. Посмотрите на эту жанровую литературу, на паблик «Страдающая литература», на людей, которые считают себя писателями, на действительно каких-то писателей, которые берут какие-то премии. Посмотрите, какими словами их раскручивают издательства… Нужно понимать, что весь этот мир с «Найди Лесоруба», с «Отто Райхлем» — это все очень-очень маленький мир.
ЛОФТ: Это возможность. Для экспериментальной литературы, для того чтобы люди могли читать Гелианова, Кауфельдта. Несмотря на все очевидные минусы современного капитализма, которые бросаются в глаза, есть вот эти окошки, которых раньше и представить себе было нельзя. Без тайного чтения с фонариком под одеялом.
АСАП: Естественно, в пространстве, где больше вариантов действия в принципе, в условно-свободной экономической системе вместо советского тоталитаризма, в том числе больше вариантов для появления литературы какими-то случайными, окольными путями. Но я говорил о том, что само мышление читателя форматируется очень сильно, закатывается в асфальт валиком. Читатель ждет жанровую литературу. Или если он читает нежанровую литературу, то она должна быть чем-то таким высоким, интеллигентным, совестливым. А если он читает экспериментальную литературу, уж не знаю с какого перепоя, то ему нужно обязательно написать, что вот это похоже на «Улисса». Конечно же, это похоже на «Улисса», на что это еще может быть похоже или на «Радугу тяготения», или на Беккета, или на Борхеса. Нет какого-то любопытства к новому, что, в принципе, если есть что-то новое, это может что-то для тебя открыть. И вот, мне кажется, в условиях тоталитарного Советского Союза это было — интерес вообще ко всему новому и необычному, как раз на фоне однообразности. А на фоне бесконечной разнообразности капиталистического рынка любой интерес пропадает, потому что зачем тебе чем-то интересоваться, если ты можешь просто в два клика прочесть «Я беременна от драконов Академии волшебства», часть двадцать седьмая.
КАФЕЛЬ: Я хочу сказать пару слов про новинку, которая вышла на днях, про «Распознавания». Я вчера прочитал журнальчик Pollen про Гэддиса. Там две статьи: Стивена Мура и Рика Муди. Я не помню, кто из них привел то, что я сейчас буду рассказывать. Короче, Гэддис писал «Распознавания» — толстый, длинный, сложный роман, который критикует современность на тот момент, 1948−1955 года, критикует английский протестантизм, критикует европейский католицизм, короче, полный пакет. И в 1955 этот роман вышел, и его никто не понял, он оказался никому не нужен, потому что американская публика в 1955 году все еще воспринимала само понятие «романа» как вот именно какую-то идеальную структуру из восемнадцатого-девятнадцатого веков. То есть им нужен был крепкий викторианский роман с четко ориентированными героями, с четкой моралью. И тут выстрелил Гэддис, мимо. Только через десять лет, когда пошли Пинчоны, Барты, Хеллеры — вот тогда и начали читать Гэддиса, и тогда поняли, что он в пятьдесят пятом, блин, году написал офигенный роман, который одним из первых переломил стремление романистов продолжать вот эту, грубо говоря, викторианскую традицию романа.
АСАП: Это интересно в том ключе, что им нужно было дождаться шестидесятых, подождать десять лет. Естественно, никто в пятидесятых не знал, что будет шестидесятые. Как думаешь, будут ли свои «шестидесятые» у экспериментальных писателей, как мы, или все это останется, так же никому не нужно?
КАФЕЛЬ: Будут-будут. Мне кажется, что мы сейчас живем в таком условном американском семьдесят четвертом-семьдесят пятом году.
ЛОФТ: Я даже не знаю, ты прям сейчас хорошо сказал или плохо.
АСАП: Я думаю, что надо заканчивать.
КАФЕЛЬ: Так, может, опять тамплиеры?
АСАП: Тамплиеры, думаешь? Капиталистические тамплиеры. Давайте вернемся к началу, к теме писателей и к Володину. Вот у Володина экстремальный случай антиутопии в его постбеккетовском письме. Во вселенной Антуана Володина концлагеря стали просто формой организационного устройства типа городов, то есть, у него такая вселенная-ГУЛАГ, логика которой растянута на все человечество. И писатели в его мире, в том числе в микроромане «Писатели» — у него все романы микро и еще разбиты на мелкие новеллы — писатели у него что-то среднее между шаманами, магами, знахарями, которые должны рассказывать истории об этой реальности, об ее иллюзорности, при том, что все это иллюзорно, потому что эти концлагеря — в Бардо, то есть максимально абсурдный мир. Вот почему это постбеккетовское письмо — потому что, во-первых, персонажи у него никак не могут заткнуться никто, они должны постоянно говорить и писать. Во-вторых, потому что нужно продолжать говорить о каких-то фундаментальных вещах, описывающих реальность, в которой мы находимся, и о чем-то за пределами этой реальности, потому что, если это не делать, ну, пиздец иначе. И хотелось бы все-таки услышать от Кафеля, в частности, кто такие писатели и зачем они нужны сегодня.
КАФЕЛЬ: Да не знаю я.
АСАП: Не, ну это честный ответ.
ЛОФТ: Это орден шелкового умника.
КАФЕЛЬ: Никогда не думал об этом, потому что это как сороконожка. Сороконожка идет, а если она начнет задумываться о том, а как я на сорока ногах-то иду, она споткнется и упадет.
АСАП: Это логично.
ЛОФТ: Задумываешься, что сегодня роль писателя сильно отличается от роли писателя, скажем, лет четыреста назад.
АСАП: Во-первых, я не уверен, что четыреста лет назад были писатели. Ну, то есть, были, конечно. Четыреста лет назад — это какой, семнадцатый век? Ну, был Сервантес, конечно, был Шекспир.
ЛОФТ: Такие себе писатели, да.
АСАП: Рабле был за сто лет до этого. Нет, я к тому, что это единичные экземпляры, совершенно удивительные. И на самом деле они абсолютно не вырастали из того, что было вокруг них, и с ним не соотносились. Вот Гарольд Блум очень вами всеми любимый указывает, по-моему, чуть ли не первый на эту абсолютно очевидную вопиющую штуку, что история литературы и история культуры, соответственно — она построена целиком на исключениях, потому что Данте не отражал никак флорентийскую литературу того столетия, Рабле никак не отражал французскую литературу, Сервантес — испанскую. В них, конечно, были элементы этого всего, они из них состояли, но они сделали что-то абсолютно новое, и именно это новое и запомнилось. А мы теперь учим историю культуры по исключениям, которые противоречат культурной ситуации того периода. И так вплоть до Джойса, это очень странно.
ЛОФТ: Это не странно, по-моему, это совершенно логично.
КАФЕЛЬ: И еще монастырские библиотеки, которые не сгорели — это исключение.
ЛОФТ: Лет через четыреста, например, ведь не будут помнить все эти сотни тысяч людей, которые пишут сегодня. Будут помнить, там, Андрея Гелианова, Кауфельдта, еще, там, двух-трех, будут говорить, что эти люди не отражали течения времени. Это к слову о том, что есть испанская литература, английская, немецкая, но кого будут помнить через четыреста или через двести лет — это все выбивающиеся из этих литератур, все представители наднациональной литературы. Поэтому и отличается Сервантес от испанской литературы, поэтому и Данте от стандартной литературы, которая его окружала. Это и есть большая литература.
АСАП: Да, но вот как ты думаешь, почему у них получилась та литература, которая у них получилась? Они делали то, что они хотели.
ЛОФТ: И они были талантливы!
КАФЕЛЬ: Сервантес, по-моему, в тюрьме сидел.
АСАП: Да где они там только не сидели.
ЛОФТ: Да и Данте, я хочу сказать, бедокурил.
АСАП: Данте вообще в изгнание убежал, потому что его в родном городе повесить хотели политические противники, насколько я помню, то ли Гвельфы, то ли Гибеллины, я их путаю все время. И я вот не понимаю смысла: учитывая, что, скорее всего, никакой объективной известности нам и не светит, у нас не будет даже тиража двадцать тысяч экземпляров в мейнстримном издательстве, я не вижу смысла идти на компромиссы в том, что мы пишем, просто никакого абсолютно. Надо делать именно то, что хочется, именно то, что кажется важным, и тогда, может быть, у этого будет шанс на что-то повлиять, что-то изменить и как-то остаться. Я, конечно, пессимистично настроен в этом отношении, но, мне кажется, иначе нельзя.
КАФЕЛЬ: Про компромиссы. Ася Михеева, писательница, живущая в Аргентине, рассказала, что когда она отправила роман в российское издательство, те прочитали текст, связались с ней и говорят, извините, а можно мужа главной героини не убивать, это не входит в стратегию издательства. Она посмеялась и отправила роман в другое издательство.
ЛОФТ: И тут мы понимаем, почему антиутопия пользуется популярностью, а утопия — нет.
АСАП: Да, и легче представить конец света, чем конец капитализма.
ЛОФТ: Все эти рассуждения приводят нас к такому большому вопросу о ремесленниках и художниках. Стивен Кинг — художник или ремесленник?
АСАП: В зависимости от того, какую область его творчества взять. Среди его реалистических произведений самое лучшее, наверное, «Тело», по которому сняли фильм Stand By Me. Это очень хороший текст, очень сильная история взросления, и у Кинга много было именно реалистических текстов, и в них, мне кажется, он, скорее, художник. А когда он пишет хоррор, он, конечно, крепкий ремесленник, но все равно Кинг в большинстве своих текстов сильно выше среднего уровня, который обычно можно встретить по больнице. Другое дело, что я читать его уже не могу абсолютно. Я прочел всю его на тот момент библиографию в 2006 году и несколько раз пробовал читать более поздние произведения, и, по-моему, это просто чудовищно. Был там у него роман «Мистер Мерседес» в 2014 году, который потом стал частью трилогии, и там первые двадцать страниц просто герой сидит, смотрит телевизор и описывает все, что он видит по телевизору. Причем это не имеет никакого, по-моему, отношения к последующему сюжету. Буквально вот этот принцип «пиши о том, что знаешь». Или, допустим, роман про убийство Кеннеди «11/22/63», там восемьдесят страниц всяких примет времени, которые должны в это погрузить. Я вижу, как это сделано, и понимаю, что не хочу это читать… Да, я голосую за ремесленника.
ЛОФТ: Я, кстати, недавно провел эксперимент, и оказалось, что практически никто из моего окружения не читал повесть Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Но при этом фильм смотрели все.
АСАП: Да, фильм сильно затмил повесть. Он, по-моему, до сих пор не слезает с первых трех строчек рейтинга IMDB.
КАФЕЛЬ: А мне даже и фильмы по Кингу не нравятся. Ни «Зеленая миля», ни «Побег…» Там вот это вот «мышонка убили», ну, блин.
ЛОФТ: Я лично считаю Стивена Кинга комбинацией ремесленника и художника, потому что он умеет писать.
АСАП: Что по нынешним временам уже само по себе как бы довольно много.
ЛОФТ: А нынешние времена — это когда не умеют писать?
АСАП: Ну, ты прав в том плане, что у Кинга у него бывают эти приступы иррационального вдохновения, когда в его знакомый уже конструктор сюжетно-приемный внезапно вторгается какая-то штука, которая совершенно, может быть не к месту, но она цепляет. И мне кажется, он сам вообще не понимает, что он делает…
ЛОФТ: И вот это — признак художника.
АСАП: Я думаю, да. Потому что вот он написал «Сияние», которое Кубрик очень хорошо экранизировал, извлек из него еще больше, чем там было заложено, и Кинг вообще не врубился, очень сильно ругался и сделал свою ужасную версию.
КАФЕЛЬ: Вот мы начали про Кубрика, про штуку не к месту, и Флэнаган сейчас снимает «Темную башню», и представьте, что Флэнаган из «Темной башни» сможет вытащить, что он сотворит с этой по сути довольно банальной историей, если он реально развернется.
ЛОФТ: «Темная башня» — это в принципе вселенная Стивена Кинга, потому что все, что он пишет — это все из вселенной «Темной башни», так или иначе. Амбициозный проект у Флэнагана. Но, учитывая, как он снимает это, будет что-то интересное.
АСАП: Я думаю, у него все получится, если у него будет достаточный бюджет, и если ему позволят сильно играться со сценарием и дописывать свое, потому что самая сильная сторона Флэнагана это, конечно, его монологи, и диалоги фирменные о природе бытия. Я заметил, англоязычные люди часто на них ругаются в своих критических рецензиях — мне кажется, это большая глупость, потому что вот как раз монологи, за каждый из которых хочется дать «Оскара» это сильная сторона Флэнагана. Иногда еще драматургия, да. В «Призраках дома на холме» драматургия такая, что хочется это выписывать в тетрадочку, раскладывать по каждой серии и использовать как учебное пособие. Я так раньше делал с сериалом «Прослушка». Я не увидел этого в «Полуночной мессе» и «Докторе сне», но я увидел там те самые монологи замечательные. У него большой талант, но он неравномерен, мне кажется. Я не знаю, от чего это зависит, может, от продюсеров.
КАФЕЛЬ: «Полуночная месса» — она же тоже такой поклон Кингу. Ты там много Кинга увидел из того, что ты читал?
АСАП: Да, это абсолютно Кинговская история, она на многое похожа — на «Безнадегу», на что-то еще. Последняя, по-моему, книга Кинга, которую я прочитал, был сборник «Все предельно», там, где была гениальная новелла про гостиничный номер, Салентхилловская, очень… Кстати! Кафель, скажи, пожалуйста, почему у тебя в новом романе прям такое количество Сайлент-Хилла?
КАФЕЛЬ: В первом выпуске уже немного говорили мы про это. Я полез читать про Сентрейлию — реальный город-прототип Сайлент-Хилла, и больше уже про него думал, чем про игры. Второй роман — он про людей, которые стремятся вернуться в прошлое хоть каким-нибудь образом, потому что им кажется, что в прошлом было лучше. В городочке Строгово им было хорошо, как им кажется. И когда они пытаются вернуться к прошлому, когда они любой ценой туда попадают, ничего хорошего не случается, потому что нельзя улучшить свою жизнь, вернувшись в прошлое. Можно только двигаясь вперед, а они тянутся в прошлое, и, к сожалению, ничего хорошего из этого не выходит.
АСАП: Хотел бы ты вернуться в прошлое? И как ты считаешь, пытается ли вернуться в некое фантомное прошлое русская литература сейчас, если она существует?
КАФЕЛЬ: Ну, естественно, как слабый человек, хотел бы побродить по Ленинграду года девяносто восьмого-двухтысячного, но просто на один денечек, чтобы увидеть вот эти места и время, когда мы заканчивали школу, чисто в ностальгических целях. То, что русская литература пытается вернуться в прошлое — нет, не думаю, потому что, мне кажется, слишком мало современной русской литературы привязано к этому прошлому.
АСАП: Тогда почему у нас есть такое количество современной русской литературы, про условные девяностые? Двадцать пять лет прошло!
КАФЕЛЬ: Ну так это не прошлое, это, грубо говоря, чуть-чуть оставшееся за порогом современности. Мы девяностые еще не пережили. В какого молодого писателя ни ткнешь сейчас, он уже, наверное, не читал Аксенова. Соответственно, он не знает, что у Аксенова есть такие прикольные приемы, что он в 1975 году написал советскую «Радугу тяготения». Эти молодые в массе ориентируются больше на девяностые, как ты сказал, и я с высоты своего возраста тоже не могу понять, что вот движет двадцатилетними и тридцатилетними, которые пишут о девяностых. Что это? Хотят они вернуться в прошлое? Черт их разберет.
АСАП: У меня был в 2019 году такой сон, интересно, что я его записал, в котором я перемещался во времени, во сне, в 2009 год, в 1999, в 1989, когда я существовал, но чуть-чуть, был маленьким. И там во сне была интересная градация легкости восприятия, как будто чем дальше во времени, тем все воспринимается более четким, простым и более наполненным жизнью. И по сравнению с этим было видно, что реальность, в которой мозг живет сейчас, она какая-то совсем картонная, перенасыщенная сигналами и из нее как будто вынута вот эта жизненная сердцевина. Я тогда задумался, насколько вообще можно отделить вот для нас, условных ровесников нового государства, насколько мы можем отделить становление жизни страны, всего этого жизненного пространства, от собственных элементов биографии. Потому что когда мы были детьми, страна была ребенком. Когда мы были молодыми людьми, она проходила зрелость. Сейчас вот кризис, видимо, среднего возраста или я не знаю что. Просто интересно, насколько в воспоминаниях, в ощущениях можно отделить от себя происходящее в связи с путешествием времени.
КАФЕЛЬ: Меня в другую сторону отделяет. Как меня после прочтения всего Довлатова отделило туда в семидесятые куда-то, я вот, похоже, там бултыхаюсь. Сложный вопрос, потому что я никогда себя не ассоциировал со страной, скорее, с городом. А город для меня — вот такой вот Ленинград как тогда и остается, ничего с этим поделать не могу.
ЛОФТ: Из всего, что ты говорил в последнее время, у меня закономерный по-моему такой вопрос возникает, ты считаешь, что раньше было лучше?
АСАП: Я не считаю, что раньше было лучше, я считаю, что сейчас не очень. А «раньше» — оно какое-то гипотетическое, оно может отодвигаться все дальше и дальше. Было ли лучше в девяностых, шестидесятых, двадцатых, в девятнадцатом веке, в семнадцатом? Может, в Вавилоне было хотя бы лучше как-то, с табличками?
ЛОФТ: Просто это такое довольно частое мнение, что раньше умели писать, а вот сейчас они не умеют. Раньше была литературная критика, а вот сейчас ее уже нет.
АСАП: Да нет, я думаю, все остается примерно одинаково в плане и талантов, и критики. Экономическая система сильно меняется. Сейчас она вообще в полной чудовищной жопе. Я думаю, в основном по политэкономическим причинам сейчас невозможна ни нормальная литература, ни нормальная критика, ни нормальные читатели. Сейчас все настолько отформатировано и загнано в какие-то кубики холодца, что… Я не знаю просто, что об этом сказать. Посмотрите на эту жанровую литературу, на паблик «Страдающая литература», на людей, которые считают себя писателями, на действительно каких-то писателей, которые берут какие-то премии. Посмотрите, какими словами их раскручивают издательства… Нужно понимать, что весь этот мир с «Найди Лесоруба», с «Отто Райхлем» — это все очень-очень маленький мир.
ЛОФТ: Это возможность. Для экспериментальной литературы, для того чтобы люди могли читать Гелианова, Кауфельдта. Несмотря на все очевидные минусы современного капитализма, которые бросаются в глаза, есть вот эти окошки, которых раньше и представить себе было нельзя. Без тайного чтения с фонариком под одеялом.
АСАП: Естественно, в пространстве, где больше вариантов действия в принципе, в условно-свободной экономической системе вместо советского тоталитаризма, в том числе больше вариантов для появления литературы какими-то случайными, окольными путями. Но я говорил о том, что само мышление читателя форматируется очень сильно, закатывается в асфальт валиком. Читатель ждет жанровую литературу. Или если он читает нежанровую литературу, то она должна быть чем-то таким высоким, интеллигентным, совестливым. А если он читает экспериментальную литературу, уж не знаю с какого перепоя, то ему нужно обязательно написать, что вот это похоже на «Улисса». Конечно же, это похоже на «Улисса», на что это еще может быть похоже или на «Радугу тяготения», или на Беккета, или на Борхеса. Нет какого-то любопытства к новому, что, в принципе, если есть что-то новое, это может что-то для тебя открыть. И вот, мне кажется, в условиях тоталитарного Советского Союза это было — интерес вообще ко всему новому и необычному, как раз на фоне однообразности. А на фоне бесконечной разнообразности капиталистического рынка любой интерес пропадает, потому что зачем тебе чем-то интересоваться, если ты можешь просто в два клика прочесть «Я беременна от драконов Академии волшебства», часть двадцать седьмая.
КАФЕЛЬ: Я хочу сказать пару слов про новинку, которая вышла на днях, про «Распознавания». Я вчера прочитал журнальчик Pollen про Гэддиса. Там две статьи: Стивена Мура и Рика Муди. Я не помню, кто из них привел то, что я сейчас буду рассказывать. Короче, Гэддис писал «Распознавания» — толстый, длинный, сложный роман, который критикует современность на тот момент, 1948−1955 года, критикует английский протестантизм, критикует европейский католицизм, короче, полный пакет. И в 1955 этот роман вышел, и его никто не понял, он оказался никому не нужен, потому что американская публика в 1955 году все еще воспринимала само понятие «романа» как вот именно какую-то идеальную структуру из восемнадцатого-девятнадцатого веков. То есть им нужен был крепкий викторианский роман с четко ориентированными героями, с четкой моралью. И тут выстрелил Гэддис, мимо. Только через десять лет, когда пошли Пинчоны, Барты, Хеллеры — вот тогда и начали читать Гэддиса, и тогда поняли, что он в пятьдесят пятом, блин, году написал офигенный роман, который одним из первых переломил стремление романистов продолжать вот эту, грубо говоря, викторианскую традицию романа.
АСАП: Это интересно в том ключе, что им нужно было дождаться шестидесятых, подождать десять лет. Естественно, никто в пятидесятых не знал, что будет шестидесятые. Как думаешь, будут ли свои «шестидесятые» у экспериментальных писателей, как мы, или все это останется, так же никому не нужно?
КАФЕЛЬ: Будут-будут. Мне кажется, что мы сейчас живем в таком условном американском семьдесят четвертом-семьдесят пятом году.
ЛОФТ: Я даже не знаю, ты прям сейчас хорошо сказал или плохо.
АСАП: Я думаю, что надо заканчивать.

