Небесные тропы, нервы неба, герметические рандеву
(Тайные цари и их царские искусства,
а также Пинчон, Берроуз и все-все-все)
Заметки к рассказам А. Гелианова из сборника «Сад, где живут кентавры»
Небесные тропы, нервы неба, герметические рандеву
(Тайные цари и их царские искусства,
а также Пинчон, Берроуз и все-все-все)
Заметки к рассказам А. Гелианова из сборника «Сад, где живут кентавры»
«Но происходит странная вещь: как только переход осуществлен, та реальность, которая ранее была внутренней и скрытой, открывается как охватывающая, окружающая, содержащая то, что ранее было внешним и видимым. Это происходит после того, как человек вышел из привычной нам внешней реальности посредством вхождения внутрь. С данного момента духовная реальность является охватывающей, окружающей, содержащей реальность, именуемую материальной. Вот почему духовная реальность не находится „в где“. Это где находится в ней. Иными словами, она сама есть где всех вещей. Она не подпадает под категорию ubi, относящуюся к месту в чувственном пространстве. Ее место (ее abâd) по отношению к нему есть nâ-kojâ (ни-где), поскольку ее ubi по отношению к тому, что находится в чувственном пространстве, есть ubique (везде). Если мы поняли это, значит мы поняли ключевые моменты, необходимые для того, чтобы исследовать топографию визионерских опытов. Мы можем открыть их направление и их смысл».
Анри Корбен, Mundus Imaginalis
Один из самых ценных для меня эффектов от прочтения книги — когда словно ключом открывается новое смысловое пространство, которое «невозможно развидеть» и повышается «размерность» восприятия, внимающего отныне не только наличествующей в ощущениях действительности, но и скрытым отзвукам других — возможных, невозможных и параллельных миров. Когда от легчайшего движения внимания видимое растворяется и складывается в новый калейдоскопический узор, теперь связанный с прежним лишь через незримую точку Наблюдателя.
Итак, мне хочется предложить неуловимому Наблюдателю совместную прогулку вдоль тропинок — смысловых линий сборника рассказов Андрея Гелианова «Сад, где живут кентавры».
Подобно тому, как символ параллельно существует во множестве смысловых пространств, связывая их воедино невидимой нитью, уже название отбрасывает две тени, предлагает два равных значениях — это Кентавры как мифические существа, идущие в двух мирах, существующие на их границах — человеческого и животного, и Кентавры как класс небесных тел, странствующих между Юпитером, Сатурном и Нептуном, пути этих астероидов зачастую пересекаются с орбитами сразу нескольких планет-гигантов.
Астрологическая символика этих небесных садов: безбрежное море воображения Нептуна, и ограничивающие его (заключающие в рамки понимаемого и воспринимаемого) символические структуры Сатурна, экспансия земного владычества через связь с мифом, истинная власть, долженствующая служить посредником между землëй и небесами, но имеющая исток в мифическом-воображаемом (и лишь через него могущая себя утвердить) — это, конечно, Юпитер — проливает свет на сквозные темы сборника.

Иллюстрацией опытов прикосновения к этим иным мирам служат все рассказы сборника — будь то разворачивающееся в космическое пространство (и трансцендирующее замкнутые рамки симуляции) женское присутствие из «Александрии над звездами» (из всепроникающего пространства оборачивающееся во всеохватывающую, плотную телесность в финальном рассказе сборника, «Квартет „Бессмертие“»); или свидетельствование о присутствии верхнего мира, символически исцеляющее действительность и ограждающее еë от сил хаоса в «Старом Джеке, или Наблюдателе за птицами»; создаваемые и конденсирующиеся во внутреннем дворце памяти ансамбли образов из «Почтальона в ноябрьской вечности»; основанная на другом порядке опыта утопия (то самое место, которое нигде) — не попадающая в символические решетки текста, неподвластная ни механизмам интерпретации, ни законам земных властей из «Нерва неба»; или переливающаяся из персональной мифологии в мифологию семейную и впадающая через русла утерянной прозы Бруно Шульца в бескрайнее море воображаемого (отметим, что встреча с этим морем состоится и в финальном рассказе сборника) из рассказа-эпонима «Сад, где живут кентавры»; открытие внутреннего зачарованного лунного царства через исчерпание внешних явлений — в «Артуре Шпандау»; и финальный аккорд, в котором сходятся воедино смысловые линии — «Квартет „Бессмертие“». Теперь же, в общих чертах обозрев сборник в целостности, обратимся подробнее к индивидуальности составляющих его рассказов — и к точкам их пересечения друг с другом.
Сразу же отмечу, что целью этих заметок не является рассмотрение стилистики рассказов или производимого ими эстетического и эмоционального впечатлений — что является совершенно отдельной темой, — но только прослеживание проходящих через тексты отдельных смысловых нитей, поэтому представление заведомо неполное. К тому же оставлены многие из рассыпанных автором загадок.
«Экфрасис»: распад ткани бытия — и все только начинается
Зачин сборника — самый короткий рассказ, краткость которого обманчива — описания утерянного эпоса, запечатленного на концентрических кругах огромного ритуального блюда. Уже в этом вступлении предъявляются темы, которым суждено развиться и расцвести в следующих рассказах сборника.
Гностическое отвращение к «царям мира сего» — к властям как уничтожителям эпоса, в котором царь начинает войну (которая положит конец и героям эпоса, и царству, и самому царю), увидев во сне явление богов с предсказанием, что ему до́лжно захватить священную оливковую рощу, жилище нимф:
«Оливы, которые росли на земле близ их города, всегда давали лучшее масло в стране. В тени их не раз видели нимф, и роща часто бывала местом, где завершались обряды мистерии. Царь соседней страны пожелал эти оливы: он считал себя человеком набожным, и боги во сне сказали ему, что его предназначение — захватить рощу. Решившись сон претворить в реальность, он стал безумцем».
Вспомним традиционные представления, египетское и герметическое, об истинном царе как инстанции между законом небес, выраженном в движении светил, и своим земным царством, транслирующем небесные энергии, упорядочивающие материю. Если же властитель не способен к трансценденции, не находится в контакте с этой иной, символической реальностью, упорядочивающей явленное под небесами, материальный мир начинает разваливаться на части, вырываются силы разрушения, представленные как раздирающая война, как вторжение хтонических сил (бунт несдерживаемой хаотической материи): буквальных сказочных великанов Яджуджа и Маджуджа из «Александрии», или же метафорических — символических великанов из «Старого Джека, или Наблюдателя за птицами», убийственных мемов-вирусов, разрушающих информационную среду человечества в «Нерве неба», или бульдозеров, уничтожающих девственный лес в «Квартете „Бессмертие“».

В «De Occulta Philosophia» Корнелия Агриппы приводится иерархия сущностей, к которым в зависимости от способностей можно прикоснуться освободившемуся от цепей тела:
«Ибо будучи освобожденной посредством humor melancholicus, душа полностью сосредотачивается на воображении и немедленно становится пристанищем для нижних демонов, от которых часто получает чудесные наставления в рукодельных искусствах; и тогда мы видим как необученный человек неожиданно становится художником, или архитектором, или выдающимся мастером в любом другом искусстве; если такие демоны открывают нам будущее, то они являют видения связанные с природными бедствиями и катастрофами, такими как близящиеся штормы, землетрясения, град или грядущие чуму, голод, разрушения… Но когда душа целиком сосредоточена в рассудке, она становится обиталищем средних демонов; так она получает знание о природном и человеческом; тогда мы видим, как человек нежданно становится философом, физиком или оратором; о будущем они являют нам видения о падении царств и обращении эпох, пророчествуя, как пророчествовали Римлянам Сивиллы… Но когда душа полностью воспаряет к интеллекту она становится домом для высших демонов, от которых узнает божественные тайны, такие как закон Бога, ангельские иерархии, и то, что относится к знанию вечных вещей и спасению души; о будущем они являют нам грядущие знамения и чудеса, пророков, которым суждено прийти, или о возникновении новой религии, как Сивилла пророчествовала о Иисусе Христе».
Тирану же из «Экфрасиса» являются вводящие в заблуждение демоны, советы которых приведут к общему разрушению.
В роли «тайного царя» (в первый раз в этом цикле рассказов, затем данная тема полностью раскроется в «Старом Джеке» и «Артуре Шпандау») один из героев эпоса, купец (не богом литорговцев и воров был под одной из своих масок Гермес Трисмегист?). В то время, когда всë пропало и разрушено, погибли друзья и страна, исчерпаны явления внешнего мира, у него открывается внутреннее зрение и он видит:
«сон, в котором боги, наконец прервавшие свое безмолвие, берут его за руки и ведут через тайные свои виноградники — где пируют с веселым смехом увенчанные золотыми венцами друзья его, и глаза их теперь полны звезд, — ведут через горы и подземелья до края мира, за край…», свидетельствует о восстановленном в ином мире порядке и справедливости, новом царстве.
Появляющееся в финале Черное зеркало — неслучайный ключевой образ гелиановерса, запускающий события первого романа автора «Алхимия во время чумы» и одновременно отсылающий к следующему рассказу, «Александрия над звездами».
«Александрия над звездами»: посланцы Гермеса,
границы воображения и рандеву с богиней
Для начала отметим вскользь, чтобы не возвращаться к этой теме: неслучайный мотив творчества автора (особенно явный в «Алхимии во время чумы») — бестелесного наблюдателя, «точки видения в пространстве». Вопрос, насколько это является (и является ли вообще) отсылкой к «наблюдателям», «бодрствующим», или, на греческий лад «egregoroi», мы, пожалуй, оставим здесь без рассмотрения.
В продолжениеотметим специально, чтобы еще не раз вернуться к этой теме, первое явление, выход на сцену всепроникающего и всесвязывающего женского присутствия — не ключ ли она к обретению новой искомой целостности?
«Слушай, Абу, — и вдруг она стала серьезной. — Я глубина, я нежность, я истина. Ты никогда меня не терял. Я жизнь, я природа, я смотрю на тебя всеми глазами явлений».
В предыдущем рассказе речь шла об эпосах — основаниях западного мышления и воображения. Действие же этого рассказа происходит в пространстве эпоса, не столь известного в наше время, но определявшего европейское сознание в течение Средних веков и позднее, наравне с рыцарскими романами, сказаниями о короле Артуре и «Legenda Aurea» — Александринской легенды, собрании историй о мифических подвигах Александра Великого. Начав формироваться еще до смерти Александра в IV веке до н.э., это собрание переплетенных историй изустно передавалось сказителями Леванта и Среднего Востока, чтобы в Европе преобразиться в литературное явление, популярность которого продолжалась вплоть до XVII века — легенда с более чем двухтысячелетней историей.

Александр Македонский в образе Короля Мечей из колоды Сола-Буска —
тревожного памятника возможно одного из самых хищных и зловещих течений ренессансного неоплатонизма

Джинны строят для Александра Македонского стену. Персидский манускрипт XVI в.
«— Я послан теми, кто называет себя зерцалами черного света». — «Александрия…»
«Члены сирийского братства, что именовали себя восприемники черного света, встретили меня в Халебе, обычные, ничем не примечательные с виду торговцы — и заговорили со мной, желая испытать мою веру и чистоту моего сердца». — «Алхимия…»
«— Вспоминай, ровно семь лет назад, когда Гефестиона отравили, а ты сам заболел, безудержно, безутешно — кто посетил тебя?
— Хызр, зеленый мудрец Востока, — прошептал царь».
Кроме того, это, конечно, не кто иной как один из инициатических персонажей суфизма, один из четырех бессмертных — Идрис (Енох, а также Гермес), Ильяс, Хидр, Иса. В своей инициатической ипостаси Хидр тоже зачастую сопоставлялся с Гермесом, богом-проводником, богом-посредником, покровителем герменевтики, символического толкования и обмена, а также обмана и воровства, богом воров и торговцев, богом переходных пространств.
Также Хидр представлен как Хадир Грюн в знаменитом инициатическом романе Густава Майринка «Зеленый лик».
В классической Александринской легенде Хидр выступал в роли помощника Александра (а в некоторых случаях так и прямо ассоциировался с ним), поэтому уничтожение границ симуляции иллюзорного царства можно рассматривать как восстановление целостности.

Хидр и пророк Илия у источника вод жизни
Сближает Хидра с Гермесом и то, что египетский прообраз Гермеса — Джехути-Тот, лунный бог циклов времени, определяет продолжительность царствования фараонов (наместников высшего закона, маат) и кладет предел царству Александра.
Можно предположить, что настоящий эксперимент Паломника и братьев Черного Света был в том, кто сможет трансцендировать симуляцию — обладающий полнотой власти царь, который может лишь продолжать свою царство за пределы неба, или же лучший из воров, — и вновь вспомним, что Гермес покровительствует и воровству, и герменевтике как толкованию. Антуан Февр пишет, что Гермес, когда крадет — возвращает погребенное сокровище в оборот, обеспечивает циркуляцию символов и смыслов, потворствует разламыванию замкнутых границ и освобождению творческого потока.
«Старый Джек, или Наблюдатель за птицами»: символические пространства, рыцарские инициации и укрощение материи созерцанием высшего порядка
«Из космических своих виноградников, из зазвездных угодий, лиловых височно-ломящих туманов — за мною следят великаны, пока я лежу на лавке, и сквозь меня проходят холодные сумерки».
Здесь вспоминается пинчоновская поэтика спектров, сопредельных соприкасающихся миров, существующих на своих частотах, из «Радуги тяготения», и лилово-фиолетовый край спектра, то, что за фиолетовым цветом — то, что за границей мира, потустороннее, знакомое нам воплощение разрушительных сил, — великаны
«Меня не волнуют ни мороз, ни великаны. Я всегда сплю на площади имени моего вождя, основателя Королевства».
— сеттинг рассказа — бездомный, воспринимающий изнанку мира, напоминает фильм Терри Гиллиама «Король-Рыбак», где один из героев — потерявший все: и положение в жизни, и семью, начинает жить в наложении повседневной и мифической реальностей, и в последней он — рыцарь, которому надлежит одолеть хтонического Красного Рыцаря и достать Грааль для исцеления мира и земель Короля. Так же и Старому Джеку предстоит через действие в символическом пространстве восстановить порядок в повседневной действительности, предотвратить худший из вариантов вторжения потустороннего (рассказ написан по мотивам реальных событий, теракта в середине 90-х годов, образуя сильно действующую и впечатляющую смесь персональной истории и персонального мифа, нарисованную необычным и ярким языком).
«Рев лиловый взрыв > затопляет зенки, и я уж ниц, и пятно-свечение не уходит, впилось в мозг мой, и впилось в лес, и оттуда из пятна быстро-сноровисто вылупляются великаны ~ ОГРОМНЫЕ, с бородами, с дубинами, мертвые, нечеловечные. Я спасаюсь от фиолетовости, налетаю на крупного рыцаря — в два моих роста. Он отечески головой качает и указывает укрыться. Иди, говорит, Джек, ты пока еще мал. Иди, я разберусь. И с мечом, и с кличем, бежит рыцарь к ним, к Б Р Б Д Н Г Н Г > уже вылупленным, ревущим, косматым горам… Живая дубина, как дерево, но с лицом. Ни у кого в руках, сама собой ударяет. Ужас вдруг ожившего шмата материи. Невозможно. Нужно, чтоб было чудо».
Материя, которой не положен предел, не освященная высшим порядком, порождает чудовищные формы, и именно к поискам чуда, верного действия на границе миров и будет направлен путь протагониста, идущего по смешанному пространству-памяти, размеченному знаками иных миров:
«Старик смотрит, прищурившись, точно ему не семьдесят, а семьсот, неподвижный утес замшелый, пик созерцающий. Птицы скоро его за предмет принимают. Корма не просят, без учета его как опасного ходят. На внутривечности век он рисует карту, топиграфику, где маршруты и натяжения. Где люди чаще всего налетают, где на не то наступают. Где если встанешь, солнце зайдет за тучу. Или хорошая память накатит.
Где для этого постоять секунду, а где и час — чтоб выцедить холодный свет из твердоты пейзажа. Где птицы по старому плану ходят — вокруг домов, которые в войну >бух< а то и в революцию! крах! — видит иную символическую разметку пространства, клетки игровой доски".
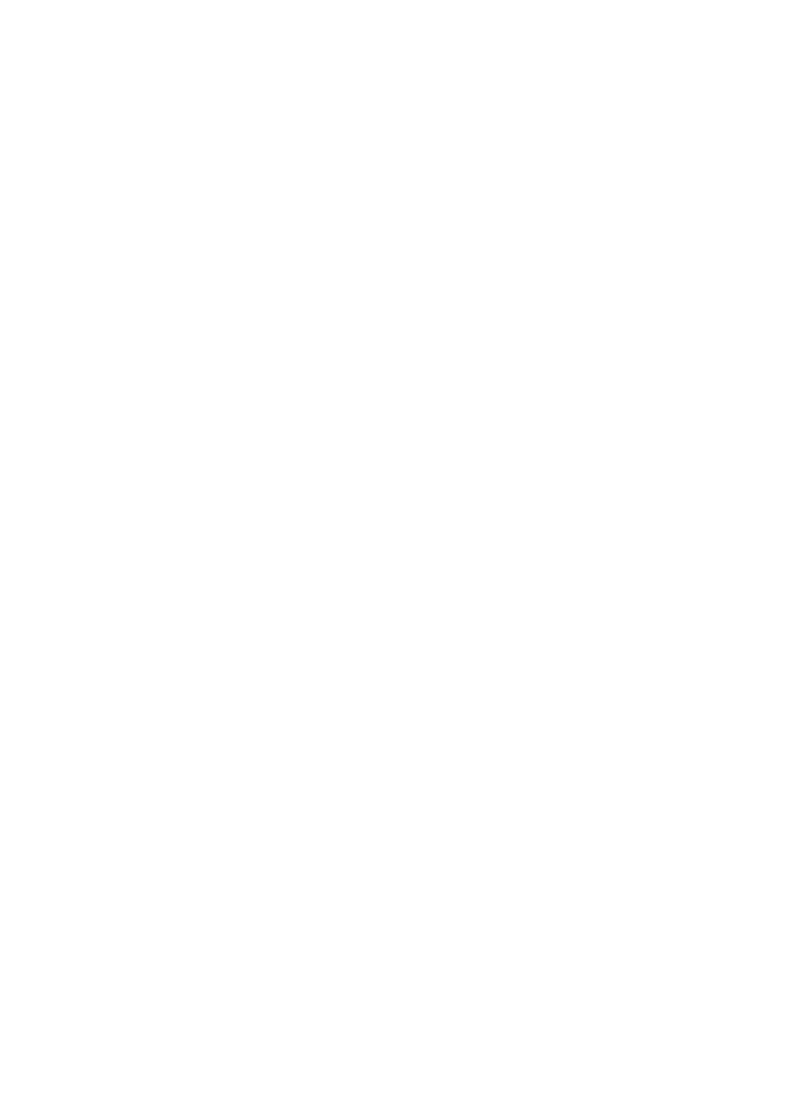
Дьявол, Гог и Магог нападают на Святой Град
«профессор, друг, живет в халабуде соседней, сказал, как увидел, что „чистый Клее“ — он прав !! Чистота как клей, день за днем склеивает разбитую давнюю боль в решимость)».
Драматическое напряжение рассказа — исступленный поиск верного символического жеста, способного предотвратить катастрофу, в потоке безжалостно уходящего времени утренней прогулки, и развязка подводит к тому, что видение высшего мира — достаточное условие умиротворения и покорения бунтующей материи, искупления реальности святостью и приведения ее под власть высших сил:
«В калитку справа от школы, мимо сапожника, скользим в большой двор между 4-этажками. Ой, хороший двор! Да, декабрь, но летом раздолье тут. Вертикальный мир изумрудных сережек — гусеницы, что свисают с небесного древа, бесконечный колодец, в который добрые духи сверху швыряют радость охапками… Галлюгусенички сверкают в фантомной выси, пунктиром обозначают кристалл — удивительный=страшный=прекрасный мир за пределами разума. Видят его лишь дети. Потому они святы. Вполне буквально.
…
!!Нет, не зря ~ говорят ему те, кому он беззвучно и тайно молился. !!Не зря ты следил и видел. !!Мы будем сегодня здесь, и сверканьем братии защитим детей. !!Мы изгоним прочь великанов, которых для нас нашел ты. !!Через год будет с ними война, через десять — они повторят, и наступит ужас. !!Но ты, Старый Джек, примкнешь уже к нашей охоте. !!Сегодня — герой, мы тебе говорим и поем спасибо".
Джек примыкает к рядам рыцарей — а тема волшебного царства, доступного лишь детям, поэтам и рыцарям, ждет своего раскрытия в одном из последних, наиболее мощных и впечатляющих рассказов — «Артуре Шпандау».
И, дойдя до этого рассказа, хотелось бы отметить еще одну сквозную тему сборника — присутствие на всех уровнях мифа: это и глобальные мифы, определяющие сознание народов, как в «Экфрасисе» и «Александрии над звездами», это и сокрытые мифы, которые могут стать достоянием избранных — как в «Почтальоне в ноябрьской вечности» и «Нерве неба», наконец семейная мифология «Сада, где живут кентавры» и персональная «Артура Шпандау» и финальная точка — «Квартет „Бессмертие“», где личный миф становится плотью, текстурой и соединительной тканью реальности (неужто та самая «чистота как клей»?). Можно проследить такое движение смысла через все рассказы — движение от мифического, глобального и всеобъемлющего смыслового пространства до истории ограниченных общин, до семейной истории, до оснований личности (и далее вплоть до строительных блоков самой действительности) — чтобы через индивидуальное развернуться в новую личную реальность, подобно «движению» описанному в цитате Анри Корбена, вынесенной в эпиграф к этим заметкам.
«Почтальон в ноябрьской вечности»:
вознесение избранных против благой вести о свете всепроницающем,
а также о сновидце как вестнике и связующем,
спасителе и спасенном (и заодно почтальоне, который и автор, и письмо, и адресат)
О вымышленном, но полнокровном учении освобождения, отражающемся в поэзии и преломляющемся в сюжете рассказа, пойдет речь и сейчас.
И нас ожидает еще один стилистический скачок — из экспериментального и экспрессивного языка, свидетельствующего рваные границы реальности, происходит плавный (как во сне?) переход к поэтическому языку, буквально созидающему видимости и ткань окружающего мира.
Поэтому начало рассказа похоже на опыт начала сновидения («и никаких сновидений» — говорит нам финал предыдущего рассказа; но недаром он закончился только что; исчерпался опыт и отпечатки опыта, и настало время зарождения новых картин), когда из (не)осеннего тумана сгущаются образы, и вокруг них сознание наблюдающего начинает закручивать сюжет (но «однажды ноябрь кончится, и снега зададут совсем другие мотивы»).
И, как известно, мало способов лучше зафиксировать тело сновидения и удержаться в зарождающемся или ускользающем сне, чем непосредственно ощутить его изменчивую материю: «Все еще не знаю, что все это значит, но как-то теплей и уверенней стало неловкому телу, пока возилось оно с предметами. Что же теперь».
И снова текст нам подсказывает, что точка повествования находится в пространстве совместного существования различающихся реальностей в пограничном месте, промежутке — если угодно, бардо (сна ли, посмертия или даже принятия нового рождения — важно ли это тут?): «Я тоже вижу как будто два ансамбля образов сразу, одновременно, и удивлен, что бы это ни значило, что их теперь только два, а не больше, да еще и тот, другой — истаивает, отменяется холодным воздухом ноября у холмов близ леса».
Промежуточный статус места действия и фигура вестника, пересекателя фантазматических границ, снова отсылает нас к фигуре верховного посредника — Гермеса Трисмегиста, существующего одновременно во множестве миров и покровительствующего свободному обращению между ними, символическому и иному.
Иная существенная для понимания отсылка — «локусы», или «дворцы памяти», конструируемые внутренние пространства, населенные живыми и действующими образами, припоминание которых оживляет в памяти пространный текст, набор сложных концепций или, как вариант (находивший применение и у схоластов средневековья, и, наверняка, у риторов и философов античности), — активирует опоры понимания для восхождения к истинам высшего порядка. Отсюда и удивительно красивый и подходящий титул «отец руин» — указание, что возведенные во внешнем мире ансамбли суть лишь руины сокрытого внутреннего дворца (обители и сокрытого царя, и одновременно тайного творца). (Больше узнать про дворцы памяти, их применения и основания современной мнемоники можно из трудов Фрэнсис Йейтс, переведенных на русский язык и доступных заинтересованному читателю.)
«Вторая картина: строки Каракка в моей… голове, в сознании. Это пространство, что я для себя изготовил годами упорных трудов, похоже сейчас на пещеру бескрайней тьмы, настолько большую, что в ней бы мог поместиться город — или возникнуть из зева черного двадцать тысяч вещей — но возник только этот ноябрь, одна, одна вещь, стоящая в ноябре, отделенная от холмов и леса, и солнца, упавшего за свечение.
Ветерок проходит по коже моей. Почему я здесь, и один, а не правлю сонмами, не распространяюсь все больше, не умаляясь, до глубины составов внутри вещей, сообщая им собственное бытие, поверяя реальность нитей из ткани нового мира.
Строки Каракка: сливаясь с собой, ты теряешь мир. Ты думаешь, что обретаешь мир, найдя свое одиночество, но мир это тьма вещей, а ты — свет, что пронизывает их все».
(Из «Причалов, или Машины тайн» узнаваемы Каракк-проповедник, фантасмагорический «город Г.» — Грезилон и зеленая река, у вод которой к протагонисту приходит осознание неминуемой разлуки, — Физис. Там же, в примечаниях к роману, указывается: «о Каракке, точнее об одном из преданных его последователей, было написано в отдельном труде сомнительного характера».)

Одна из систем памяти Джордано Бруно — память вмещает в себя модель всего универсума, основанную на небесном и зодиакальном символизме (из De umbris ideaeum («Тени»), Париж, 1582)
И строки Каракка, указующие на скрытое знание и воскрешающие память и личность («Итак, внутриместность пещеры, огромной, не скажем бескрайней… пусть она будет конечной, просто я не вижу ее краев. Строки Каракка в ней — свет огоньков процессий, отвесных линий, что протянулись по каменным тропам во тьме, указуя путь, создавая память. Касаясь мысленным взглядом этих огней, я пробуждаю слова, воскрешающие мою память, мою цель, меня»), и движения внимания героя — создающие равно как картины-участки мира, так и письма, образующие движение сюжета, — приводят нас к древнему египетскому мифу о божестве, посредством слов и заклинаний извлекающему из небытия мир, богу мудрости, циклов времени и символического иератического письма — Тоту (мы уже вспоминали о нем в разговоре о первом рассказе сборника), образ которого во время синкретического эллинистического периода соединился с фигурой Гермеса-Меркурия.
И финальный выбор героя, предпочетшего вознесению служение исходящим из света символам, связывающим и обрывки мира, и осколки личности, а частичному избавлению — скрытую всеобщую связность, плавно выводит нас в пространство следующего рассказа, где тоже затрагивается тема исцеления через обретение целостности.
«Нерв неба»: скрытые места языка,
а также его решетки, растворение и сгущение,
резонансы и созвучия, тайные и отреченные
государства иного порядка
Если в «Старом Джеке» бунтовала и порождала титанические чудовищные формы лишенная связи с высшими принципами материя, то в «Нерве неба» сходят с ума от неограниченного и бесструктурного роста (подобного делению раковой клетки) информационные структуры, приводя к распаду мира на несвязанные части:
Однако теперь ученые с изумлением выяснили, что инфовирусы, порождаемые в виртуале, вообще не зависят от формальной контент-оболочки, которая их переносит. Теперь они были отдельной, так сказать, формой жизни, которая обитала в мозгу человека и размножалась, заставляя его выкладывать определенный контент в инфосеть. Неизвестно, как мода на аугментацию повлияла на вспышку — быстрота и тотальность действия? Какая-то синергия от нового медиума? — так или иначе, волну уже было не остановить.
В течение года инфосеть из земного рая всеобщей связанности превратилась в ад Босха. Случайно увиденная в ленте картинка — с виду нормальная, девочка в платьице, дом — и человек убивал всю семью и себя. Селфи на фоне моря и сопроводительный трек — и загорается мэрия. Короткий стих «со смыслом» — и дети прыгают с автострад…
Усложняется и развивается тема языка как медиума, осуществляющего связь: если «Почтальон в ноябрьской вечности» сосредотачивался на поэтическом порождении памяти и реальности из слова, то в «Нерве неба» речь идет уже о тайных областях, сокрытых в языке:
«Видишь ли, имена богов, первопонятий и древних обрядов уже содержат в себе всю свою реальность. Как это выразить еще прямее: места тайны буквально спрятаны в языке. Когда говоришь „Элевсин“ — в этом имени буквально весь Элевсин, со всеми ночными факелами, мистерией метаморфоз и колоса, корзиной священных предметов, подземным миром».
«Потайные места» языка сетевой коммуникации, «всей возможной информации, что бесструктурно орала тысячей языков» — этоколлектор сточных вод нижних уровней психики,хранилище вытесненного содержания (подобно мучившему Марка кошмару о второй злой голове, про существование которой он забыл), нечто, бурлящее безумием, что всегда готово прорваться немотивированным и гипертрофированным насилием:
«Мем про школу — человек вырывает себе глаза, чтоб избавиться от лица из мема, заполонившего мир. Слова песни, которые не можешь выкинуть из головы, они заполняют все, в них вся твоя жизнь, биография, имя, не можешь перестать их повторять. Веселый флэшмоб — выложи отрубленными руками друзей флаг своей новой республики».
Противоядием от этой болезни языка — и болезни порожденной им реальности и картины мира — становится следование за возникшим, казалось бы, из ниоткуда, упоминанием о стране, жители которой выбрали жизнь в бесписьменной культуре, организацию вокруг иного принципа («другие звукоряды, другие чувства, другая жизнь») и поэтому исчезнувшей из символических пространств — Салахии. При встрече с таким характерным «казалось бы», естественно предположить, что символ исходит от не бессознательной, но еще не осознаваемой героем части себя, стремящейся восстановить целостность и установить связь по новому и незараженному протоколу — положить начало исцелению. Не исключено, что в этом предположении один из ключей к разгадке рассказа.
Что еще интереснее — при следовании по цепочке знаков принципиально отличного языка за дразнящим миражом на грани достижимого, иным смысловым пространством открываются и становятся доступны целые области доселе невозможного знания, прежде невыразимого, покоившегося в пространстве потенциального.
(И если внутренний мир почтальона, персональный дворец памяти, — это «пространство, что я для себя изготовил годами упорных трудов, похожее сейчас на пещеру бескрайней тьмы», прошитое строками поэтического текста, при шествии вдоль которых воскресают утерянные воспоминания, — то гигантская библиотека из «Нерва неба» не есть ли продолжение темы дворца памяти, уже не столько персонального, сколько обще-социального (может, для этого времени обособленность личного мира от коммунального, перенасыщенного линиями связи и передачи информации, — непозволительная роскошь? С точки зрения такого «неразделения» интересно, что страж Библиодома — савант, хранящий в памяти каждую страницу каждой книги, может быть тоже одной из внутренних фигур протагониста — недаром Марка помнят только он и рассказчик). И тут уже воскрешаются не воспоминания, а утраченные возможности, вероятные миры, заключенные в клетках-решетках иных языков. (Встреча с темой утраты ожидает нас в «Некийе», и в финале сборника, когда последние представители видов и явлений отступают из проявленного мира в «саргассово море» потенциального. Равно как и с темой отреченного знания, выламывающегося за границы принятого возможным в социуме.)

Донская государственная публичная библиотека — одновременно и праобраз, и воплощение Библиодома
Всплывает в памяти и фигура столпа контркультуры Уильяма Берроуза (в позднем периоде своего творчества создавшего образы анархических утопий, ускользающих от тотального надзора, из поля видимости мирских властей), с его метафизической герильей против системы глобального Контроля и ее служителей, против языка как вируса, порабощающего сознание и навязывающего подспудно заложенную в его категориях (особенно категории времени) картину реальности.
«Возможно, шаман-руководитель священного ансамбля, проводивший обряды карашма, сплотил вокруг себя людей и захватил власть. Он объявил записанное слово — вирусом, который прошивает время насквозь как листы бумаги, дьявольским инструментом, единственный смысл которого — связывать воедино время, доказывая преемственность и свышеданность текущей власти, погружая невидимым ритмом бубна читающего в гипноз, в нужный сон о реальности». (Конечно же, отрицание претензий мирских властей на владение связующим смыслообразующим принципом нам уже встречалось и в «Экфрасисе», и в «Александрии».)
Заслуживают отдельного внимания и хотя бы краткого самостоятельного изыскания и все упомянутые фантомные и утопические государства: от образованной множеством племен и территорий Зомии (даже не фактического государства, а скорее антропологической идеи), где реализован принцип ускользания составляющих ее этническо-клановых образований от государственного контроля, письменного учета и налогообложения на недоступных высокогорных территориях, до Катарской Окцитании, альтернативного культурного центра средневековой Франции, области, где исповедовалась христианская ересь гностического толка (в рассказе нам встретится упоминание гностической инкантации из кодексов Наг-Хаммади), и подарившей миру такое поэтическое явление как плеяду трубадуров — «труверов» (в переводе с окситанского — «ищущих»). Окситания и Лангедок будут важны для Отто Рана, идущего по следам легенды о Граале, который еще встретится нам в «Артуре Шпандау», а пока просто отметим перекличку между бывшими одновременно и поэтами, и исполнителями труверами-ищущими и живущими по принципу гармонического резонанса салахийцами.
«Карашма — скорее всего, искажение заимствованного персидского слова kereshmeh, «находиться в поиске». Салахийский мастер над церемонией во время фестиваля нарекался «ищущим», он ищет слаженности между выбранным ладом и ветром, дующим в текущем месте и в этот час.
По-видимому, у жителей Салахии присутствовал некий орган, буквально отвечавший за их отношения с миром и ветром. Их музыкальные ритуалы были не просто обрядом, а способом коммуникации с самими собой, как бы сезонной настройкой в такт с резонансами мира. Насколько я понял, этот орган музыки — в книгах указывалось, что следы его бытия в культуре Востока сохранились в искусстве мугам или макам (арабское слово одновременно для места и состояния) — работал также как орган этики».
Интегрировав и пережив опыт послания о существующей в другом символическом порядке стране, которая скорее всего является больше состоянием, чем местом, объединив разрозненные части себя и превратившись из «ищущего» в «нашедшего», герой одновременно исполняет работу по исцелению и связыванию окружающего мира:
«Я чаще гуляю, и, должен сказать, многие уголки нашего города совсем не в таком плохом состоянии, как мне казалось».
Уместно сопоставить со строками из «Почтальона»:
«Каракк, мысль руин: человек во сне видит и ходит по себе вокруг. Человек не во сне видит и ходит по себе вокруг. Не вокруг себя. Это важно, и это не образ».
Подобно Почтальону, герой «Нерва неба» выбирает не делать шаг в пространство иного, а остаться на пороге-границе, знающим оба мира, свидетелем другого порядка и зрителем игры явлений.
«Иногда теперь, когда я долго, до темноты, сижу на скамейке в парке, я начинаю слышать, как говорят ветра. Они вдруг заводят песню, высокую песню о чем-то, чего больше нет, и делают паузы, словно ждут, что и я спою — хотя бы внутри — в ответ. Что я снова войду в их хор, в их пространство тайны. Но я просто сижу здесь, прикрыв глаза, и слушаю ветры, пока они не замолкают. Верить можно только лишь тишине».
Пусть этот завершающий отрывок будет отсылкой к Уильяму Берроузу, которого мы уже вспоминали (и поводом его процитировать):
«От симбиоза до паразитизма всего один шаг. Ныне слово — это вирус. Вирус гриппа некогда мог быть здоровой легочной клеткой. Ныне это паразитарный организм который поражает и разрушает легкие. Слово некогда могло быть здоровой нервной клеткой. Ныне это паразитарный организм который поражает и разрушает центральную нервную систему. Современный человек утратил право на тишину. Попробуйте прекратить свою внутреннюю речевую деятельность. Попробуйте добиться хотя бы десятисекундной внутренней тишины. Вы натолкнетесь на противодействие организма который в ы н у ж д а е т в а с г о в о р и т ь. Этот организм и есть слово. В начале было слово».
Культивирование внутренней тишины, а не присоединение к хору голосов, будь то внутренних или внешних, — ключ к сокрытым пространствам.

Герметическое молчание. Из книги Ахилла Боккия Symbolicarum quaestionum… libri quinque, Болонья, 1555
«Сад, где живут кентавры»: дорогами утраты по семейному древу к истоку персонального мифа, эпифании и высшее оправдание, а пропавшая книга подает знаки, но уже едва ли поправит мир
Важные как для понимания, так и для дальнейших построений исторические подробности будут приведены по статье Миколая Глинского «В поисках „Мессии“. Писатель и его следопыт». Значимо, что исчезнувший в трагических обстоятельствах роман, сюжет которого до сих пор только реконструируется в разнообразных догадках, самим своим отсутствием творит легенду, втягивая самых разнообразных акторов в иной, архетипический сюжет о поисках недостижимого — словно отступив в предшествующее оформленной и явной реальности пространство мифа и только через редкие разрывы в занавесах действительности отбрасывая нездешний свет, напоминая о своем некогда присутствии. (При чтении вышеупомянутой статьи складывается впечатление, словно за ветрами истории и неистовством тоталитарных режимов стоит злонамеренное разумное начало, стремящееся извести редких свидетелей и стереть немногочисленные следы пребывания этого автора и его книги, словно сама плоть мира отторгает нечто себе чужеродное. И тема враждебных и неправедных властей возвращает нас к гностическим мотивам первых рассказам, «Экфрасиса» и «Александрии над звездами». Отсылка к этим учениям встретит нас и здесь, когда речь зайдет про искры.)
В этой точке, бросив взгляд и назад, на приведенную в качестве эпиграфа цитату Фрейда —
«Природные парки сохраняют то древнее состояние, которое в других местах повсюду с сожалением принесено в жертву требованиям необходимости. Там все может расти и разрастаться, как хочет, даже бесполезное, даже вредное. Такой отнятый у принципа реальности заповедник представляет собой душевная область фантазии».
— можно увидеть еще одну из смысловых нитей, проходящих через сборник: от дворцов (руин) памяти и внутренних пространств памяти «Почтальона в ноябрьской вечности», через работу над-персонального над-сознательного по констелляции смыслов, ведущей к внутренней интеграции в «Нерве неба» — к путешествию в «древнее состояние», к «корням творения», его до-рациональным истокам, ярким и исполненным внутренней силы.
Здесь выявляется одна из стержневых концепций рассказа — архаическое представление («что-то более древнее, чем христианство, — что-то тайное, о чем я всегда хотел с ней поговорить») о необходимости периодического обновления мироздания через возвращение к изначальному состоянию, если угодно, — тому, что австралийские аборигены называли «временем сновидений», — для противодействия дряхлению и вырождению мира, губительному влиянию сил времени и хаотического распада.
Тема «ностальгии по истокам», как мы можем увидеть, если обратимся к упомянутой в начале статье, характерна и для творчества Бруно Шульца:
«Сегодня мы знаем, что два фрагмента, задуманные первоначально как части «Мессии», Шульц включил в изданный в 1937 году сборник «Санатория под клепсидрой» — это открывающий его рассказ «Книга» и «Гениальная эпоха». Их объединяет общая тема детства как периода необыкновенных эпифаний и творческих порывов…
…Говоря о «Подлиннике», Фицовский отсылал к одному из ключевых мотивов творчества Шульца: читанной в детстве «Книги», по сравнению с которой все остальные меркнут. Ее творческая реконструкция станет писательским постулатом Шульца. Мотив этот появляется, например, в «Гениальной эпохе», одной из новелл Шульца из второй после «Коричных лавок» и последней книги, опубликованной при жизни автора, — «Санатории под клепсидрой» (1937). (Миколай Глинский «В поисках „Мессии“. Писатель и его следопыт»).
И это обновление мира, через прикосновение к фантастическим истокам творения, встает в ряд с теми деяниями «тайных царей», о которых мы рассуждали ранее, — по связыванию мира с трансцендентным и защите его от сил хаоса («Экфрасис», «Александрия над звездами», «Старый Джек, или Наблюдатель за птицами») и соединением его разрозненных доселе частей («Почтальон в ноябрьской вечности», «Нерв неба»).
Интересно, что протагонист («!!!») рассказа связан с Бруно Шульцем, скорее всего, двояким образом: с одной стороны — передачей невидимого влияния через бабушку, хранительницу истории рода, в то время учившуюся у Шульца рисованию и созданию образов —
«Говорили, он писал сказки, но никогда про это не говорил, про письмо. Речь — дело другое. На уроках он любил придумывать на ходу истории, рисовать на доске фавнов, зверей, загадочных дам, и вделывать, переплетать это все в такие захватывающие притчи, которые дети, конечно, понять не могли, но смеялись, и радовались, и любили учителя.
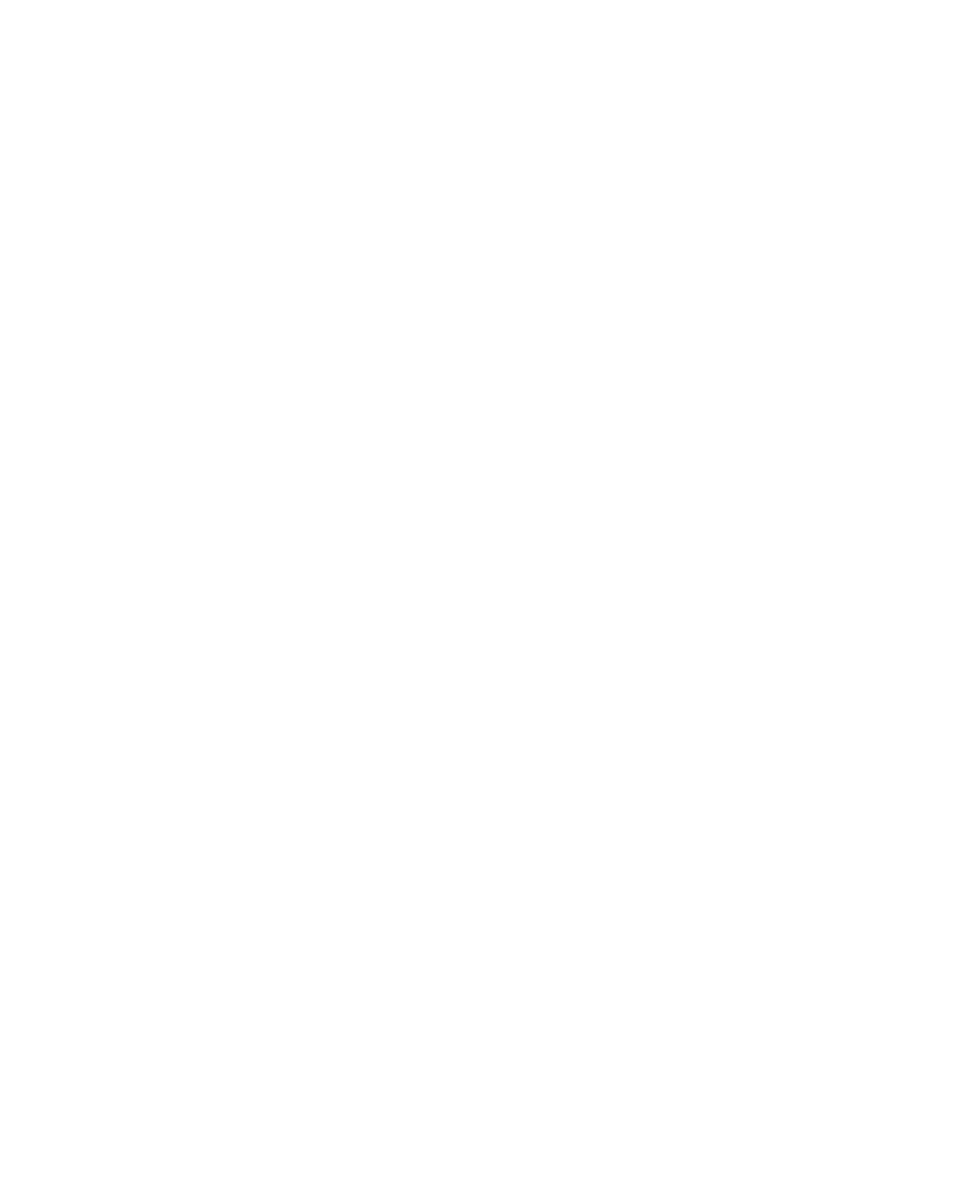
Из сохранившихся фресок работы Бруно Шульца

С другой стороны — на это есть лишь косвенные намеки, и это может быть лишь моими догадками — через деда, загадочного человека, имевшего связи с КГБ и, возможно как-то причастного к хранению пропавшего архива Шульца:
«Второй муж бабушки был странным человеком. По виду он походил на обычного украинского мужика, любил выпить, сходить налево, забор уронить соседу. Но в нем была какая-то глубина, тайная тень, в которую он жену не впускал. У него имелись знакомые в КГБ, с которыми дед запросто при встрече здоровался и мог попросить их об услуге, но это было не все. …
Она никогда не узнала, что за собрания проводил по ночам ее странно преображавшийся муж, за победу каких идей они поднимали бокалы вина, густо-рубинового, как польская кровь. Однажды она услышала тот пароль, который шептали дежурному у калитки — sklepy cynamonowe — и затем, с таинственным скрипом они проходили внутрь…».
(В упомянутой статье Глинского: «В гетто Шульц пытается спасать свой архив. Манускрипты литературных произведений, рисунки, графику и обширную, собиравшуюся годами корреспонденцию пакует в сделанные наспех картонные пачки. Пачку с рукописями — среди них скорее всего находится «Мессия» — якобы вверяет кому-то на арийской стороне.
Фицовский считал, что этим хранителем должен был быть поляк или украинец — наверняка житель Дрогобыча, Борислава или Стрыя. К сожалению, оба свидетеля тех дней по прошествии лет не могли вспомнить его фамилию. Сам Фицовский годами подозревал, что «Мессия» может находиться в архиве КГБ. Перипетии, связанные с этими поисками, и правда похожи на приключенческий шпионский роман»).
Одним из этих укрывателей мог быть и дед героя.
Сам рассказ состоит из переплетения трех планов: воспоминаний героя о семейной истории — главным образом о бабушке, заставшей то время, когда Шульц зарабатывал на жизнь учительством в школе; сне о совместном с бабушкой визите в гигантский парк (будто и праобраз знаменитых садов, и сложение виденных наяву или в воображении) и стоящий на его границе потусторонний Санаторий, а также вырывающихся из текста отрывков — персональных эпифаний, — которые также могли бы быть фрагментами утраченного «Мессии» — и внутри рассказа и его логики, скорее всего ими и являющиеся. Не из одной ли материи сотканы сны, воспоминания и прозрения — да и этот рассказ, в конце концов?

Фигура спящего из Парка Бомарцо — также прообраза и также воплощения Сада Кентавров
«Как описать этих существ, обитавших — всегда обитавших — в парке, что уже давно приходит в упадок? Химеры, кентавры, или, может быть, гибриды? Могло показаться, что они — хаотичная смесь многих видов зверей и птиц и инсектов и совсем незнакомых разных существ — но это, напротив, из них, из этой прото-протеевской ярмарки были выхвачены, зафиксированы черты отдельных львов и ехидн, форелей и дикобразов. Каждый зверь, обитавший здесь, был первоформой, один взгляд на которую высвобождает глаза от косности.

Эти «кентавры» происходят из того же источника, что и дивные звери с рисунков Шульца, эпифании, освобождающие и обновляющие мир и восприятие, переотражения так и не явившегося «Мессии», оставшегося по ту сторону возможного.



Появление гиганта Ориона — древнего охотника, созвездием преследующего Плеяды, — возвращает к памяти о небесном символизме, небесных тропах, узорами которых пишутся переплетения судеб и нашего мира.
Поток, который представляет бабушка и носителем которого является герой — «Мне кажется, она никогда на самом деле не видела ни во мне, ни в моем отце — ничего, кроме хорошего, кроме тех искр, что лежали в основе нас, что отчалили от ее потока» (искры божественной природы, заключенные в материи, и «собирание искр» — одни из самых узнаваемых образов гностических учений)
— и он тоже истощается со временем «И она, теперь старушка, была, выходит, последней, кто помнил эти слова — или память о них, осыпающаяся пленка, газета обугливается, пыль в форме подвальной тьмы». — это перекликается с воспоминаниями о другом сновидении — горящих руках, которые могли бы удержать мир от катастрофы, — «такой вид у сна, как у ДТП, но без машин и людей, только камера вылетает рывком-восьмеркой, и я тут вижу как кисти рук моей бабушки, большие, морщинистые, как пергамент, как образ письма, и они вращаются и вдруг падают на дорогу — и их охватывает огонь», искры собираются и возносятся в иные сферы (быть может, навстречу поющим ветрам и хорам голосов?), следы «Мессии» теряются во времени, утопии, и зачарованные сады отступают прочь из этого мира в глубины моря потенциального — и что после растворения в едких водах скорби и горечи? — время переходить к «Некийе».
«Некийя / Коммос» — эмпедокловская космология
и космические спирали, поэтика утраты,
разрывы старых связей — но и образование новых

«Я агент 418. Я иду по платформе, вдоль и мимо вокзала. Мне нужен дальний конец, освещенный неверным фонарным светом. Все или спят в такой час, или просто закончились — как завершится мир, если я и мой чемоданчик не сможем добраться до дальней станции этой нити». (418 — число Великого Делания в оккультной системе Алистера Кроули, Великое Делание — алхимический процесс обретения философского камня, способного как преобразить металлы из падшего состояния, Свинца Сатурна в царственное Золото, так и исцелить человеческую природу и все мироздание путем обращения к изначальной творящей силе.)
— и намекает о разрешении этих мотивов в двух заключительных произведениях.
Как и в предшествующем рассказе, где за событиями семейной истории скрывалась игра универсальных сил времени/разрушения и творения/обновления, так и за интенсивностью полярных переживаний в «Некийе» видится действие пред-человеческих начал.
Одновременно с болью и горечи потери в игру вступает любовное томление
«Где-то там вдали просыпается вдруг любовь. Это вечное, от зари времен, в розовом неоперенном свете — двое, мальчик и девочка рыщут на ощупь, угадывают в полутьме сцены контуры своего другого, еще почти не различая лиц.
***
Мальчик и девочка жмутся друг к другу в теплой сырой темноте, и их обоих колотит от страха в сердце, от того, что где-то там идут поезда и уносят с собой декорации».
Образ вселенской спирали, сочетающей центробежность и центростремление, растворение и сгущение —
«Спираль белая, очень большая, во всей ночи, разлетается кольцами, кружит по краям отсутствия, и отсутствие продолжается. Длится».
отсылает в том числе к эмпедокловской космологии — с богиней Афродитой, универсальной движущей силой, расположенной в центре вселенной, и спиральное вращение ее пояса, чарующего смертных, вызывает чередование периодов Любви и Вражды, соединения и распада четырех первоэлементов (эта четверичность еще сыграет в финале, в «Квартете „Бессмертие“»).
В древних представлениях образ Афродиты обладал большим числом граней, чем сложившееся ныне представление об олицетворении романтической любви — это и действие изначальной силы притяжения, вселенской гравитации, но и состояния родственного сну оцепенения всех чувств — высшей точки любовного томления по тому образу, что отсутствует.
Подобно тому, как визит в Сад Кентавров возможен в состоянии сна, когда разум освобождается от действия телесных чувств, то путешествие на край мира, где бушуют неукрощенные силы
«Мы оба знаем, что скоро подъедем к зоне непредсказуемых превращений. Но думаю, мы все преодолеем».
нужно осуществить лишь из состояния, когда, подобно сковывающим цепям, разорваны старые связи любви и дружбы, не дающие выйти за пределы прежнего мира, из внутренней пустоты, когда вихрь кружащих в тумане образов начнет складываться в очертание нового мира:
«Теперь я не чувствую ничего. Вы снились мне раньше, теперь мне снится кто-то совсем другой».
«Артур Шпандау» — исчерпание образов внутреннего кинофильма и финальные титры персонального мифа,
камень обращается видением,
а потаенный король обретает свободу
Существует подробный разбор внутренней творческой кухни этого произведения самим автором («Как сделан „Артур Шпандау“»), остается лишь добавить к нему несколько наблюдений.

«Прожекторы-великаны мечутся, рыщут по древним стенам тюремной крепости».
«Ему видится, как он стоит на стене, укутанный в темный плащ, и вблизи, почти касаясь лица, висит лунный шар в полнеба».
«Мы не видим самого номера семь, только фигуру по краю кадра — железная койка с матрацем и простынями, деревянный табурет у стола для чтения — прямо перед глазком в двери».
И эта кинематографичность — текст как будто выстраивает кадр — и множащиеся оптические эффекты, монтажом накладывающиеся друг на друга различные пласты времени и действительности, реальность превращающаяся в кинопленку, или образы, сгущающиеся и обретающие плоть, — вместе с темой заговоров и тайных пружин истории не может не напоминать опять-таки Пинчона, на этот раз «Радугу тяготения» (как мы помним, повесть закончится звездой на дне гравитационного колодца. И, конечно, появившийся как бы из ниоткуда белый шахматный конь на столе!).
«Каждый человек состоит из ткани своей истории, думает номер семь. И каждый продолжает ткать ее каждый час».
«Профиль Артура в камере, не в фокусе, медленно приближается, свет воображаемого окна отбрасывает на него картины, как кинопроектор».
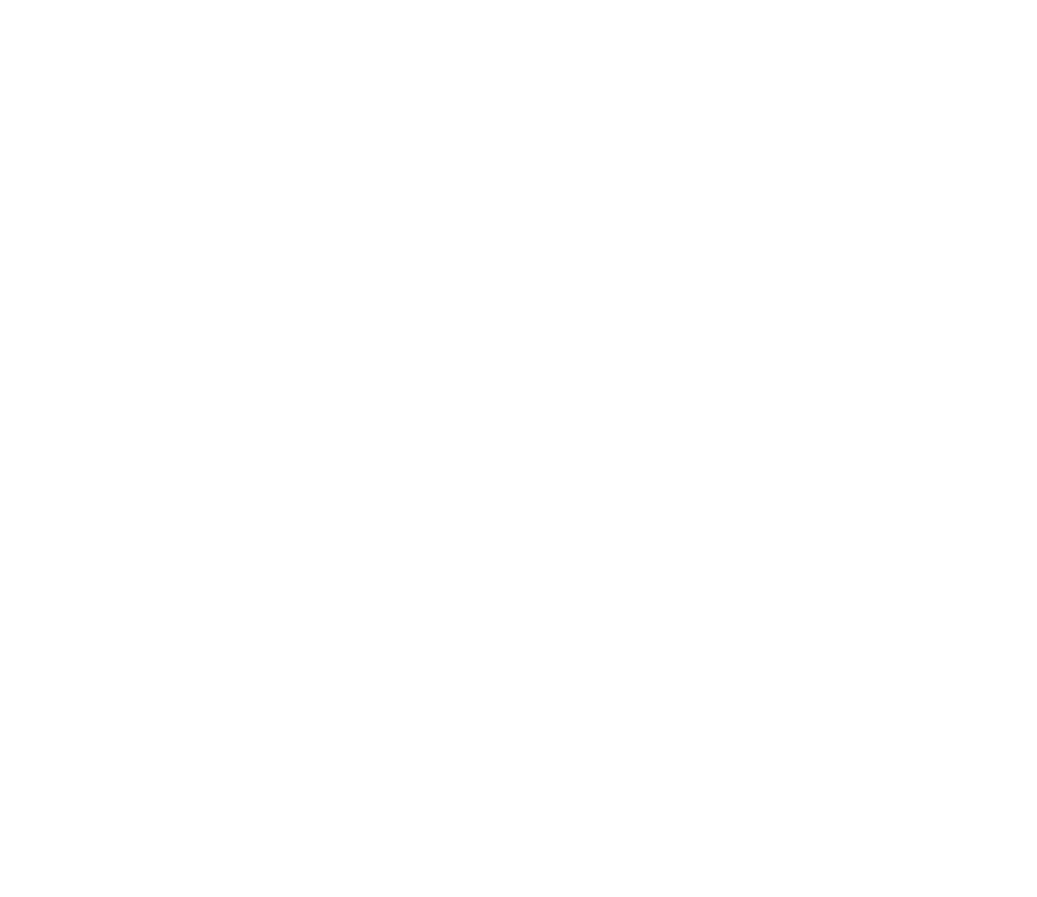
И тогда рассказанную историю можно рассматривать как своеобразную инициатическую последовательность процессов очищения — начиная с заключения и изоляции от внешнего мира (тот самый разрыв удерживающих связей, о котором мы много говорили касательно прошлой интерлюдии), продолжая через истощение внешних событий (те самые пропущенные месяцы, мелькающие на страницах подобно пустым кадрам) — и заканчивая тем, что именно из-за этого истощения становится видимым — начинает проецироваться вовне — внутренний миф Артура (sic!) о заключенном внутри горы короле.
Этом миф явлен в воспоминаниях о видениях детства —
«Ночами его одолевают видения — он крутится на постели — на миг кадр накладывается на первую сцену из будущего в тюрьме — процессии фей и сказочных дровосеков шествуют через комнату в синих, лиловых и лунных вспышках. Стена уезжает вдаль, становится льдистым зеркалом — и глазами сонного тела Артур зрит далекую гору — где спит Небесный Король — и слышит песню колдуньи в черных лесах — и светятся огоньки в болотах».
Также в действительность этот миф проявляется посредством легенды о короле карликов Лаурине, покоящемся в зачарованном саду, — которая появляется как воспоминание о книге Отто Рана, исследователя легенд о Граале и истории окситанских труверов.

«Артура приводят в некое помещение. Снимают мешок. Растягивают на столе. Он кричит, сопротивляется. Медсестра с улыбкой волчицы усыпляет его уколом. Мускулы Артура расслабляются. Пока он спит, его кожу, волосы, обрабатывают зловещим зеленоватым раствором — ноу-хау Йозефа Менгеле, о составе лучше не спрашивать. На глазах пораженного персонала и присутствующих эсесовцев кожа юноши начинает меняться, стариться. И вот двадцатипятилетний уже выглядит на пятьдесят».
— это дерзость по отношению к тайне, поднятый у подножия Сфинкса тост —
«Новый год в стране пирамид овеян победой, и Артур, расслабившись, позволяет себе кое-что: он поднимает безмолвный тост за Сфинкса, хранителя мудрости, на глазах которого они покарали зло».
Фамильярность по отношению к высшим силам не остается без ответа, и Артур оказывается втянут в водоворот невидимых сил, безжалостно несущий его к центральной точке сосредоточения тайны.

«Я здесь уже девять лет. Я продолжаю играть свою роль. Я больше не могу. Я не понимаю, почему я. Почему это случилось со мной. Неужели я был рожден для этого? Неужели это и есть моя судьба? Это и есть моя жизнь? Вся вселенная в моей голове — вот для этого?!»
Повествование пронизывается лунным светом — и сопровождается зачастую невидимым присутствием светила, и, как было сказано:
«С Луной в оккультизме, как правило, связаны странные церемонии. Некоторые из них очень древние, некоторые становятся очевидными только во сне».
Одна из операций герметического царского искусства — растворение грубой оболочки физического тела и его чувств (находящихся под властью луны, сияющей только лишь отраженным светом) и высвобождение сокрытого в глубине тела принципа жизненной силы, которая в частных случаях может относиться к опытам осознанных сновидений или внетелесных путешествий, — соответствует и легенде об освобождении плененного в глубине материи короля, или, словами одного руководства, —
«Чтобы отделить флюидическое тело, нужно нейтрализовать чувствительность животного тела. Техника „зеркала“ воздействует на зрительный нерв и изматывает его до тех пор, пока сила, сконцентрированная во взгляде, не выйдет из физического органа и совершит действие во флюидическом свете».
И одно из главных осознаний Артура, пришедшее после галлюцинаторного визита его темного двойника, Рудольфа Гесса:
«Это был я. Все это время — это был я. Я был — все это время».
заключается в том, что все это время он был не только лишь собой — но и своим темным двойником, и стенами тюрьмы, и той движущей силой, что запустила его финальный и фатальный сюжет.
(опять-таки, «Почтальон»: «Каракк, мысль руин: человек во сне видит и ходит по себе вокруг. Человек не во сне видит и ходит по себе вокруг. Не вокруг себя. Это важно, и это не образ».)
Очищение в изоляции и «растворение» в едких водах обнажают сокрытую сердцевину, не только позволяя проявиться вовне проекции внутреннего мифа, но и открывая новые модальности восприятия:
«И потом я взглянул наверх, и я их увидел. Белые, филигранные, как танцующие на реке туманы. Снежинки падали, как было и тысячу лет назад, и будет еще черезтысячу. И кружились они, и играли, и феями были спирали их, возвещением о другом, сокрытом порядке, который смотрел на меня, смеясь. И я их увидел. В зимнем саду в тот вечер. И я увидел, пронзительно, как все выйдет…».
Конечно, это то же самое, что видение светового колодца, нисходящего из мира добрых духов в «Старом Джеке».
Но проявления мифа также исчерпываются — и с последними словами «Тогда рыцарь запел о Минне и мае. И райский сад навсегда раскрылся перед ним. Рыцарь вошел в вечность» открывается последний, самый фундаментальный слой реальности — символическая встреча Целана и Хайдеггера в горах: «Через год с миром произойдет что-то очень важное, словно гигантский палец из неба бережно тронет его, и оказавшаяся отражением в луже реальность пойдет рябью, кругами, которые еще долго не успокоятся — если вообще когда-нибудь».
И центральный образ этой встречи — звезда, отражающаяся в глубинах вод материального, в узилище стен колодца: «и там Хайдеггер, наконец, простым жестом показывает поэту колодец. К его вершине приклеена жестяная звезда, от нее отражается первый луч заходящего солнца. Но звезда настоящая там, на дне, говорит он спокойно. Целан думает про отражение, про утонутость, про Зеир Анпин».
Луч тюремного прожектора встречал нас в начале — и отраженный луч солнца провожает нас в завершение. Движение по лучу света из подлунного мира в источник:
«Голова у Целана вдруг идет кругом, и он, в своем потертом пиджачке, раскидывает руки, словно чтобы обнять землю, вот-вот он оторвется от притяжения и упадет прямо в небо, утонет в нем, и синева сольется с зеленью лета, и мир мягко колышется, и вот-вот обновится, и сменит корни на животворящие. Звезда духа здесь, на днегравитационного колодца времени…»
Два встречных процесса, обратное движение против потока к началам творения — и обратно из области возможного в мир проявленного, обновляя его новыми соединениями его первоэлементов. И, финальным аккордом — «Квартет „Бессмертие“».
«Квартет „Бессмертие“» — реквием по последним,
гимн тайной взаимосвязи
Органично сплетаются в одно целое такие, казалось бы, отстоящие друг от друга истории последнего индейца из племени неконтактных и бесписьменных, Генриетты Лакс, прародительницы клеточной культуры HeLa, а также историка и коллекционера не укладывающихся в научную картину мира «запретных» фактов и апологета отреченного знания — Чарльза Форта.
Как будто отдельные линии входят в резонанс друг с другом, через гармоничное созвучие выявляя общую скрытую сердцевину.

«Стивен обильно перчит стейк и рассуждает про гипотезу Сепира-Уорфа — в максимально строгой интерпретации ее положений — если погибшее племя было полностью изолировано от мира, их представление о жизни могло быть буквально непредставимо для нас».
«Испанские и португальские колонисты обратили внимание, что у индейцев гуарани не было никаких видимых культовых сооружений или даже предметов. …Это наводило на мысль, что гуарани живут вне религии, не то чтобы атеисты, а настолько примитивны, что вообще не имеют каких-либо религиозных представлений… На самом деле оказалось, что гуарани были настолько религиозны, что не нуждались ни в каких рукотворных религиозных атрибутах… их Бог источник всего и повелитель, отец всех людей, он един, но может принимать различные формы, проявляться в разнообразии природных явлений…».
Знакомый сюжет о вторжении великанских сил хаоса — разрушение бульдозерами дождевых лесов и геноцид индейцев руками наемников золотодобывающих компаний:
«Племя выси знало-видело, что их мир-время быстро сужается — другая Наружа, с Буул-дазер-ами и взрывами и белыми злыми духами наступала и хотела сожрать их полностью».
«Они убили без разрешения Лесных Жителей и начали лить зеркальную гибель в землю. Человек-поющая-полоса не понимал, почему эти злые духи хотят мучить землю, и решил — просто они есть злые. Доказательств хватало».
И бесконтрольноераспространение — подобное делению раковой клетки — консюмеристской утилитарной культуры, стремящейся уничтожить даже возможность иного взгляда на мир (конечно, это и болезнь-бешенство глобальной информационной сети из «Нерва неба» — но одновременно и «ход событий», стремящийся извести малейшую память о пребывании Бруно Шульца в этом мире):
«…как говорил организатор „бойни на 11-й параллели“ Антонио Маскареньяс Жункейра, хозяин каучуковой фирмы, „индейцы — отвратительные, ленивые вредители, и настала пора очистить от них эту землю“ … интересно, почему эти ублюдки все делали такой акцент именно на лени как якобы врожденной черте характера коренных жителей дождевых лесов, что они на самом деле имели в виду, является ли лень поводом для того, чтобы сбросить на деревню динамит с самолета, убив тысячу человек, а затем добить на земле из пулеметов оставшиеся 2500, включая детей и женщин?»
Движение в сторону развоплощения, мир возможного, в саргассово море вероятностей:

И, конечно, тема музыкальных ритуалов как «настройки в такт с резонансами мира» из «Нерва неба» — в финальной повести сборника выражающейся в принципе морфического резонанса, незримым путем распространяющегося знания, становящегося общим в рамках вида.
И финальные аккорды историй, сходящихся воедино, — посмертное видение, подобное сети Индры, бесконечной космической сети, охватывающей мир в каждом переплетении которой алмаз — и в каждом алмазе отражаются все остальные камни, и каждый алмаз отражается во всех остальных камнях.
«Но он посмотрел на булыжник, такой огромный, будто планета, булыжник простой в мостовой — и увидел в нем десять тысяч вещей! Склады безразмерные галеоны библиотеки песчинки всех пляжей всех вариантов истории! И все заметки, что он когда-то сжег!»

«Полоса начала светиться. Выступили другие полосы, пока, наконец, не стала видна решетка, Передним краем которой он был последние тридцать лет. Теперь для человека кончается эта жизнь. Он пел, тихонько, слабеющим зрением глядя на свою последнюю яму. Ожидая звука в ответ».

Смешиваются в движении противонаправленные потоки, и реквием по утрате обращается в приветственный гимн.
Осеннее равноденствие, 2024 год

